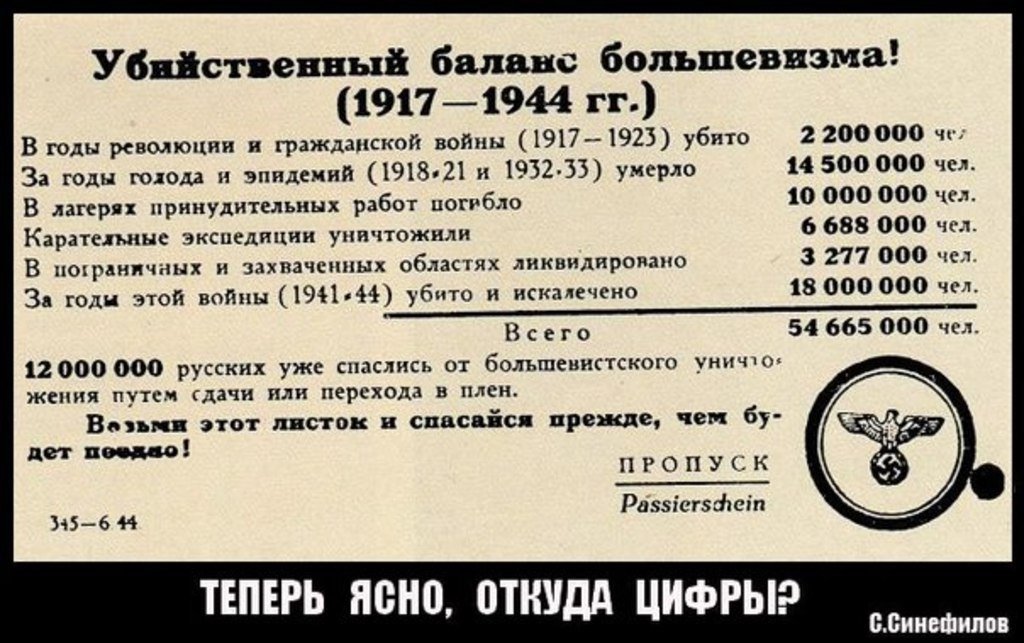К годовщине 100-летия начала красного террора
53.1 K
109
293
|
|---|
|
|

53 года
Карма: +60.79
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 4,974
Читатели: 7
Аккаунт заблокирован
Регистрация: 29.11.2016
Сообщений: 4,974
Читатели: 7
Аккаунт заблокирован
Цитата: зарун от 10.09.2018 18:28:55Это ложь. Заложники были зарублены шашками.А у Наполеона, по твоему замполитскому утверждению, не было детей.
Произошло отделение боевиков, которых мы большей частью уничтожили, от умеренной части оппозиции, которая по большей части эвакуирована (c) Шойгу https://ria.ru/syria/20161220/1484126664.html
- +0.01 / 4
-
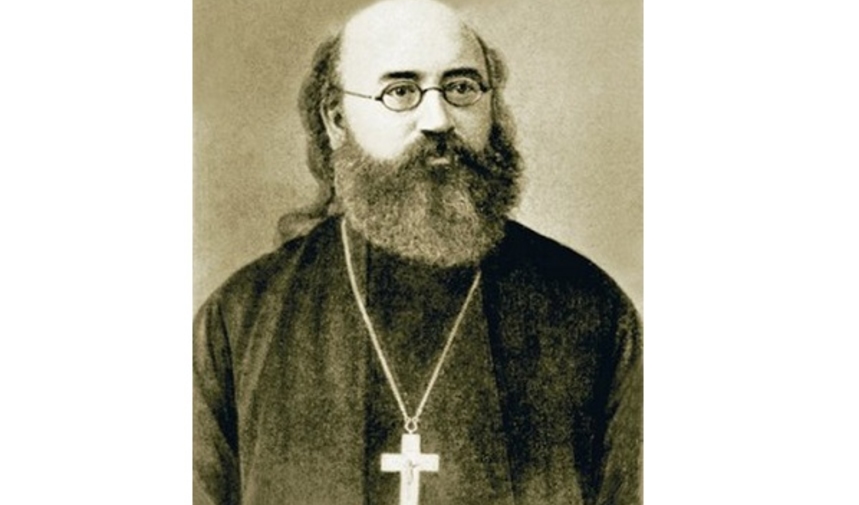
5 сентября россияне будут вспоминать одно из самых страшных и кровавых событий отечественной истории: ровно сто лет назад в этот день большевистским правительством - Совнаркомом - было принято постановление «О красном терроре». К этому времени репрессивная политика уже активно применялась большевиками в отношении как открытых оппонентов, так и всех тех, в чьей политической благонадёжности возникали хотя бы малейшие сомнения. Тем не менее новый документ, официально узаконивший карательные меры, запустил моховик репрессий с удвоенной силой. Одной из первых жертв уже официального декларируемого «красного террора» стал протоиерей Иоанн Восторгов - известный до революции религиозный и общественно-политический деятель, один из лидеров российских монархистов, жизнь которого была неразрывно связана со Ставрополем и Кавказом.
По стезе духовной
Детство Ивана Ивановича Восторгова прошло в казачьих краях. Он родился 30 января 1867 года (иногда можно встретить иную дату - 20 января 1864 г.) в станице Кавказской, располагавшейся на территории Кубанской области, а спустя год его родители переехали в станицу Ново-Александровскую (сегодня - город Новоалександровск).
Род занятий отца - православного священника, а также деда - профессора богословия Александра Восторгова повлияли на выбор жизненного пути юным Иваном. Он поступил в Ставропольскую духовную семинарию, по окончании которой в 1887 году был назначен надзирателем за учащимися ставропольского Духовного училища, где вскоре начинает преподавать русский и церковно-славянский языки.
К этому времени формируется и сфера интересов молодого преподавателя: известно, что одно из его ранних сочинений было посвящено старообрядчеству. В дальнейшем глубокое знание проблем раскольничества, религиозного сектантства, а затем и социалистических доктрин в сочетании с ораторскими способностями и редким даром полемиста сделали о. Иоанна одним из ведущих церковных специалистов в этих вопросах, причём в общероссийском масштабе.
Среди раскольников и сектантов
Ставропольский период жизни И. Восторгова был ненадолго прерван назначением на должность священника в один из посёлков Кубанской области, среди жителей которого значительный процент составляли старообрядцы. Здесь о. Иоанн не только проповедует, но также открывает на собственные средства церковно-приходскую школу и Общество трезвости, сделав, таким образом, первые успешные шаги в просветительской и общественной работе. Биографы священника отмечают, что проповедь среди старообрядцев имела большой успех: за год крещение у него приняли более 100 раскольников.
Осенью 1890 года И. Восторгов вернулся в Ставрополь, где получил должность законоучителя в мужской гимназии. В последующие годы круг возлагаемых на него обязанностей существенно расширился: он назначается настоятелем гимназической церкви, членом совета Епархиального женского училища, входит в правление Ставропольской духовной семинарии.
Своим кропотливым трудом и невероятной энергией молодой священник обратил на себя внимание высокого начальства, и в сентябре 1894 года его направляют в Закавказье. С чувством глубокой грусти покидал о. Иоанн Ставрополь. «Не знаю, как вы - хотя и могу судить по тем слезам, с которыми вы слушали меня, - но я сроднился с вами, милые дети, сроднился с этим храмом и братьями его. Вот почему в настоящие минуты сердце моё полно скорби, слёзы застилают мне очи, вся душа моя трепещет во мне…», - с такими прощальными словами обратился он к провожавшим его гимназистам.
Дальше были годы работы в Елисаветполе (сегодня это азербайджанский город Гянджа) и в Тифлисе, где И. Восторгов не только проповедовал и преподавал, но и вёл серьёзную административную деятельность. Так, только в 1900 году в одном из рабочих районов Тифлиса при его непосредственном участии были открыты три церковно-приходские миссионерские школы, насчитывавшие порядка 300 учащихся (впоследствии открылись ещё пять школ).
Обучение проходили дети железнодорожников, а также членов распространённых в регионе религиозных сект. Отношение к последним вопреки распространённому мифу о царской России как о «тюрьме народов» было здесь подчёркнуто корректным: «Пусть они сближаются с Православной церковью, пусть видят любовь к ним и заботливость о них. Не может быть, чтобы на любовь они не ответили любовью», - писал о сектантах И. Восторгов.
«Он может великую пользу принести России…»
Труды неутомимого проповедника и педагога получили высокую оценку со стороны Училищного совета Грузинской епархии. Отмечалось, что к маю 1903 года число школ здесь выросло со 160 до 300, а объём средств, выделявшихся на их содержание, увеличился более чем втрое. Кроме того, много сил И. Восторгов отдавал общественной работе: он был избран членом Кавказского отдела Императорского общества, утверждён секретарём Тифлисского отдела Православного Императорского Палестинского общества, членом Комитета Кавказского управления Красного креста.
Деятельность о. Иоанна в Закавказье длилась почти 12 лет и закончилась в январе 1906 года, когда он получил назначение в Московскую епархию на должность проповедника-миссионера. Его дальнейшая работа проходила в постоянных поездках по бескрайним просторам Российской империи с целью ознакомления с нуждами духовных учебных заведений, а также крестьян-переселенцев.
Так, ещё до своего назначения в Москву И. Восторгов по распоряжению обер-прокурора Священного Синода объехал Иркутскую, Забайкальскую и Приамурскую епархии. В 1907 г. посетил 24 епархиальных центра в Центральной России и Поволжье, в следующем году - Урал и Сибирь. В 1909 году о. Иоанн изучает миссионерскую работу на Дальнем Востоке, работая над проектами открытия здесь новых приходов и школ, а затем совершает путешествие по Манчжурии, Китаю, Корее и Японии. Каждая поездка сопровождается богослужениями, проповедями, лекциями, публикациями в прессе.
Активная деятельность о. Иоанна на ниве просвещения получила высокую оценку современников. Так, будущий святой праведный Иоанн Кронштадтский отзывался о нём как о «дивном человеке, обладающем необыкновенным красноречием», называл «Златоустом», способным «великую пользу принести России». Обратил внимание на усердного священника и император Николай II, по личному распоряжению которого состоялась одна из дальневосточных поездок православного миссионера.
«Мужицкая демократия»
Благодаря своим длительным путешествиям И. Восторгов получил прекрасную возможность наблюдать за развитием политических событий, происходящих в России, анализировать их, делать прогнозы на будущее. Естественно, что события первой российской революции были восприняты им с чувством глубокой боли и опасениями за целостность страны, судьбу царствующей династии и Церкви.
Понимая, какую страшную разрушительную силу представляют собой «буревестники революции», о. Иоанн включается в политическую работу. С 1905 года он становится членом ряда правых национально-консервативных организаций, входит в руководство «Русской монархической партии», «Союза Русского Народа», а после его раскола - «Русского народного союза имени Михаила Архангела». Острый ум, непревзойдённые ораторские способности, уникальная работоспособность скоро сделали И. Восторгова одним из идеологов и политических лидеров патриотического движения.
«Недобро, неполезно и невозможно русским переделываться в чужеземцев, да и нет к тому оснований и побуждений, ибо быть русским - почётно, быть русским - славно, быть русским - значит приобщиться к жизни истинно человеческой и достойной», - говорит о. Иоанн на собрании членов патриотических союзов Москвы в июне 1908 года.
Политические оппоненты из левого лагеря, окрестившие патриотов «черносотенцами», делали всё возможное для демонизации как лидеров, так и рядовых членов правых объединений. С одной стороны, «чёрную сотню», пытались представить движением реакционным, буржуазно-помещичьим, с другой - маргинальным, состоящим из представителей городских низов и деклассированных элементов. Сам В.И. Ленин, однако, признавал, что монархистам присущ «тёмный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий». От себя добавим, что именно этот «мужицкий демократизм» стал тем щитом, о который разбилась волна революционного хаоса 1905-1907 гг.
Среди рядовых участников патриотических союзов действительно были представители всех без исключения слоёв населения. Но кто же входил в руководящий состав этих организаций? Не в последнюю очередь они возникали благодаря лучшим представителям отечественной интеллектуальной элиты. В них состояли, в частности, такие величины, как историки Дмитрий Иловайский и Андрей Вязигин, член Императорской академии наук лингвист Алексей Соболевский, профессор-дерматолог Пётр Никольский, учёный ботаник и зоолог Константин Мережковский, профессор Сергей Левашов, писатель Михаил Волконский и др. В ряды «Союза русского народа» вступил сам Иоанн Кронштадтский. И на одном из первых мест в ряду этих достойных людей по праву стоит наш выдающийся земляк - Иоанн Восторгов.
Против «христианского социализма»
Заметное место в наследии о. Иоанна занимает его критика социалистических концепций, убеждённость в их полной несовместимости с православным христианским вероучением. Сегодня эта аргументация вновь становится актуальной в свете набирающих популярность в российском обществе идей «христианского социализма» и «православного сталинизма». Так, во время проходившего в июле 1908 года в Киеве четвёртого Миссионерского съезда он прочитал два доклада: один - посвящённый угрозе, исходящей из тёмной среды религиозного сектантства, второй - об успехах социалистической пропаганды, имеющей место среди рабочих и учащейся молодёжи.
В то же время в своих проповедях и статьях И. Восторгов подчёркивал явную неспособность идеологов социализма вытравить в душах русских людей веру в бога и церковь, лежащие в основе российской государственности. А значит, единственным путём для разрушителей империи остаётся путь революционного террора.
«Раз социализм отрицает Бога, душу, бессмертие, свободу духовную в человеке, постоянные правила нравственности, то он должен обратиться к единственному средству воздействия на человека - к насилию», - скажет он в 1906 году в разгар первого (и, к счастью, неудачного) революционного эксперимента. Пройдёт совсем немного времени, и сама история подтвердит зловещую правоту этих слов.
«Многим из нас грозит смерть…»
В 1913 году протоиерей И. Восторгов стал настоятелем Покровского собора на рву (знаменитого собора Василия Блаженного) в Москве. Здесь он получает известия о событиях, произошедших в Петрограде в феврале 1917 года. Как и большинство его единомышленников, о. Иоанн тяжело переживает крушение монархии. С этого момента деятельность патриотических организаций сходит на нет, а сам И. Восторгов скрепя сердце признаёт Временное правительство. Он продолжает вести службы в Соборе, а кроме того, издаёт журнал «Церковность», в одном из номеров которого призвал верующих сохранять верность «помазаннику Божию», т.е. бывшему императору.
Тем не менее революционные преобразования февраля не сыграли роковой роли в судьбе священника. Тучи вокруг него стали сгущаться после октябрьского большевистского переворота. Это объяснимо, ведь всё большее внимание новой власти привлекали деятели «старого режима», отошедшие от активной политической работы. Тем не менее о. Иоанн продолжал пользоваться непререкаемым авторитетом среди прихожан, а значит, представлял опасность.
«Знаем, что многим из нас грозит смерть, знаем, что многие из нас обречены на кровавую расправу за смелость борьбы с революцией даже словом. Но пока ещё свет очей с нами, и жизнь не отнята - над нами родное небо, ласкающее солнце, кругом родная природа, расцветающая теперь весеннею красой, с нами родные люди, родные храмы».Произнося в 1907 году эти слова, И. Восторгов словно предчувствовал участь, которая ожидает многих искренних патриотов в годы новой русской смуты.
Ходынская голгофа
Аресту о. Иоанна предшествовала провокация, организаторами которой вполне могли быть как личные недоброжелатели, так и сотрудники ЧК. Некий гражданин, представившийся «купцом 1-й гильдии Погаревым», предложил священнику выкупить здание московского Православного миссионерского общества. За посредничество в сделке он посулил солидный денежный куш. От предложения И. Восторгов отказался, приняв, как положено, заявление о намерении совершения сделки, которое передал на рассмотрение Священного Синода.
В продаже здания было отказано, но сам священник был арестован 31 мая 1918 года по абсурдному обвинению в спекуляции. Революционной власти нужен был любой подходящий повод для расправы с человеком, не разделявшим узкопартийных интересов большевиков. Правдивость показаний о. Иоанна получила документальное подтверждение со стороны Святейшего Патриарха Тихона, но все оправдательные аргументы были оставлены без внимания. 4 сентября 1918 года члены следственной комиссии Революционного трибунала при ВЦИК приговорили И. Восторгова к расстрелу.
Принятое на следующий день постановление «О красном терроре» развязало руки создателям карательной системы, создав юридическую базу для ликвидации всех не согласных с политикой Совнаркома. В Москве официально санкционированные расстрелы начались в тот же день - 5 сентября - на Ходынском поле. Здесь нашли свою смерть о. Иоанн, а также ряд видных государственных деятелей, в числе которых - бывший председатель Государственного совета Иван Щегловитов, экс-министры внутренних дел Николай Маклаков и Алексей Хвостов, сенатор Степан Белецкий, а также епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов).
Позже один из очевидцев казни вспоминал о том, как достойно вели себя эти мужественные люди, не уронившие перед палачами своего человеческого достоинства:«Первым подошёл к могиле протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести искупительную жертву. «Я готов», - заключил он, обращаясь к конвою».
Расправа состоялась. Но история сохранила для нас подлинный образ протоиерея Иоанна Восторгова - православного человека, духовного пастыря, искреннего патриота. В октябре 1992 года он был посмертно реабилитирован, а в августе 2000 г. Архиерейским собором Русской православной церкви причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских. И только в Ставрополе - городе, где учился и начинал свой крестный путь во имя России - о. Иоанн до сих пор остаётся незаслуженно забытым.
http://www.stav-reporter.ru/ob…-vostorgov
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.08 / 5
-

Православный Крест во дворе Храма Всех Святых на Соколе, посвященный протоиерею Иоанну Восторгову и епископу Ефрему, казненным в 1918 г. на Братском кладбище героев Первой мировой войны.
Установлен 12 декабря 1993 года.
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.08 / 5
-

Санкт-Петербург
Карма: -77.59
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
И в дальнейшем процветала та же система заложничества.
В Черниговской сатрапии студент П. убил комиссара Н. И достоверный свидетель рассказывает нам, что за это были расстреляны его отец, мать, два брата (младшему было 15 лет), учительница немка и ее племянница 18 лет. Через некоторое время поймали его самого.
Прошел год, в течение которого террор принял в России ужасающие формы: поистине бледнеет все то, что мы знаем в истории. Произошло террористическое покушение, произведенное группой анархистов и левых социалистов-революционеров, первоначально шедших рука об руку с большевиками и принимавших даже самое близкое участие в организации чрезвычайных комиссий. Покушение это было совершено в значительной степени в ответ на убийство целого ряда членов партии, объявленных заложниками.
Еще 15-го июня 1919 г. от имени председателя Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии Лациса было напечатано следующее заявление:
«В последнее время целый ряд ответственных советских работников получает угрожающие письма от боевой дружины левых социалистов-революционеров интернационалистов, т. е. активистов. Советским работникам объявлен белый террор. Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия настоящим заявляет, что за малейшую попытку нападения на советских работников будут расстреливаться находящиеся под арестом члены партии соц. — рев. активистов, как здесь, на Украине, так и в Великороссии. Карающая рука пролетариата опустится с одинаковой тяжестью, как на белогвардейца с деникинским мандатом, так и на активистов левых социалистов-революционеров, именующих себя интернационалистами.
Председатель Всеукраинской Комиссии Лацис»[25].
Как бы в ответ на это 25-го сентября 1919 г. в партийном большевистском помещении в Москве, в Леонтьевском переулке произведен был заранее подготовленным взрыв, разрушивший часть дома. Во время взрыва было убито и ранено несколько видных коммунистов. На другой день в московских газетах за подписью Каменева была распубликована угроза: «белогвардейцы», совершившие «гнусное преступление», «понесут страшное наказание». «За убитых» — добавлял Гойхбарт в статье в «Известиях» — власть «сама достойным образом расплатится».
И новая волна кровавого террора пронеслась по России: власть «достойным образом» расплачивалась за взрыв с людьми, которые не могли иметь к нему никакого отношения За акт, совершенный анархистами[26], власть просто расстреливала тех, кто в этот момент был в тюрьме.
«В ответ на брошенные в Москве бомбы» в Саратове Чрез, комиссия расстреляла 28 человек, среди которых было несколько кандидатов в члены Учредительного Собрания из конст-демократ. партии, бывший народоволец, юристы, помещики, священники и т. д.[27] Столько расстреляно официально. В действительности больше, столько, сколько по телеграмме из Москвы пришлось из «всероссийской кровавой повинности» на Саратов — таких считали 60.
О том, как составлялись в эти дни списки в Москве, бывшей главной ареной действия, мы имеем яркое свидетельство одного из заключенных в Бутырской тюрьме[28].
«По рассказу коменданта М.Ч.К. Захарова, прямо с места взрыва приехал в М.Ч.К. бледный, как полотно, и взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Так, одним словесным распоряжением одного человека, обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей.
Точно установить, сколько устели за ночь и на следующий день перестрелять, конечно, невозможно, но число убитых должно исчисляться по самому скромному расчету — сотнями. На следующий день это распоряжение было отменено…»
Прошел еще год, и распоряжением центральной власти был введен уже официальный особый институт заложников.
30-го ноября 1920 года появилось «правительственное сообщение» о том, что ряд «белогвардейских организаций задумал (?!) совершение террористических актов против руководителей рабоче крестьянской революции». Посему заключенные в тюрьмах представители различных политических групп объявлялись заложниками[29].
На это сообщение счел долгом откликнуться письмом к Ленину старый анархист П. А. Кропоткин[30]. «Неужели не нашлось среди Вас никого, — писал Кропоткин, — чтобы напомнить, что такие меры, представляющие возврат к худшему времени средневековья и религиозных войн — недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах... Неужели никто из Вас не вдумался в то, что такое заложник? Это значит, что человек засажен в тюрьму не как в наказание за какое-нибудь преступление, что его держат в тюрьме, чтобы угрожать его смертью своим противникам. „Убьете одного из наших, мы убьем столько-то из Ваших“. Но разве это не все равно, что выводить человека каждое утро на казнь и отводить его назад в тюрьму, говоря: „Погодите“, „Не сегодня“. Неужели Ваши товарищи не понимают, что это равносильно восстановлению пытки для заключенных и их родных…»
Живший уже вдали от жизни, престарелый и больной П. А. Кропоткин недостаточно ясно представлял себе реальное воплощение большевистских теорий насилия. Заложники! Разве их не брали фактически с первого дня террора? Разве их не брали повсеместно в период гражданской войны? Их брали на юге, их брали на востоке, их брали на севере…
продолжение следует
В Черниговской сатрапии студент П. убил комиссара Н. И достоверный свидетель рассказывает нам, что за это были расстреляны его отец, мать, два брата (младшему было 15 лет), учительница немка и ее племянница 18 лет. Через некоторое время поймали его самого.
Прошел год, в течение которого террор принял в России ужасающие формы: поистине бледнеет все то, что мы знаем в истории. Произошло террористическое покушение, произведенное группой анархистов и левых социалистов-революционеров, первоначально шедших рука об руку с большевиками и принимавших даже самое близкое участие в организации чрезвычайных комиссий. Покушение это было совершено в значительной степени в ответ на убийство целого ряда членов партии, объявленных заложниками.
Еще 15-го июня 1919 г. от имени председателя Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии Лациса было напечатано следующее заявление:
«В последнее время целый ряд ответственных советских работников получает угрожающие письма от боевой дружины левых социалистов-революционеров интернационалистов, т. е. активистов. Советским работникам объявлен белый террор. Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия настоящим заявляет, что за малейшую попытку нападения на советских работников будут расстреливаться находящиеся под арестом члены партии соц. — рев. активистов, как здесь, на Украине, так и в Великороссии. Карающая рука пролетариата опустится с одинаковой тяжестью, как на белогвардейца с деникинским мандатом, так и на активистов левых социалистов-революционеров, именующих себя интернационалистами.
Председатель Всеукраинской Комиссии Лацис»[25].
Как бы в ответ на это 25-го сентября 1919 г. в партийном большевистском помещении в Москве, в Леонтьевском переулке произведен был заранее подготовленным взрыв, разрушивший часть дома. Во время взрыва было убито и ранено несколько видных коммунистов. На другой день в московских газетах за подписью Каменева была распубликована угроза: «белогвардейцы», совершившие «гнусное преступление», «понесут страшное наказание». «За убитых» — добавлял Гойхбарт в статье в «Известиях» — власть «сама достойным образом расплатится».
И новая волна кровавого террора пронеслась по России: власть «достойным образом» расплачивалась за взрыв с людьми, которые не могли иметь к нему никакого отношения За акт, совершенный анархистами[26], власть просто расстреливала тех, кто в этот момент был в тюрьме.
«В ответ на брошенные в Москве бомбы» в Саратове Чрез, комиссия расстреляла 28 человек, среди которых было несколько кандидатов в члены Учредительного Собрания из конст-демократ. партии, бывший народоволец, юристы, помещики, священники и т. д.[27] Столько расстреляно официально. В действительности больше, столько, сколько по телеграмме из Москвы пришлось из «всероссийской кровавой повинности» на Саратов — таких считали 60.
О том, как составлялись в эти дни списки в Москве, бывшей главной ареной действия, мы имеем яркое свидетельство одного из заключенных в Бутырской тюрьме[28].
«По рассказу коменданта М.Ч.К. Захарова, прямо с места взрыва приехал в М.Ч.К. бледный, как полотно, и взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Так, одним словесным распоряжением одного человека, обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей.
Точно установить, сколько устели за ночь и на следующий день перестрелять, конечно, невозможно, но число убитых должно исчисляться по самому скромному расчету — сотнями. На следующий день это распоряжение было отменено…»
Прошел еще год, и распоряжением центральной власти был введен уже официальный особый институт заложников.
30-го ноября 1920 года появилось «правительственное сообщение» о том, что ряд «белогвардейских организаций задумал (?!) совершение террористических актов против руководителей рабоче крестьянской революции». Посему заключенные в тюрьмах представители различных политических групп объявлялись заложниками[29].
На это сообщение счел долгом откликнуться письмом к Ленину старый анархист П. А. Кропоткин[30]. «Неужели не нашлось среди Вас никого, — писал Кропоткин, — чтобы напомнить, что такие меры, представляющие возврат к худшему времени средневековья и религиозных войн — недостойны людей, взявшихся созидать будущее общество на коммунистических началах... Неужели никто из Вас не вдумался в то, что такое заложник? Это значит, что человек засажен в тюрьму не как в наказание за какое-нибудь преступление, что его держат в тюрьме, чтобы угрожать его смертью своим противникам. „Убьете одного из наших, мы убьем столько-то из Ваших“. Но разве это не все равно, что выводить человека каждое утро на казнь и отводить его назад в тюрьму, говоря: „Погодите“, „Не сегодня“. Неужели Ваши товарищи не понимают, что это равносильно восстановлению пытки для заключенных и их родных…»
Живший уже вдали от жизни, престарелый и больной П. А. Кропоткин недостаточно ясно представлял себе реальное воплощение большевистских теорий насилия. Заложники! Разве их не брали фактически с первого дня террора? Разве их не брали повсеместно в период гражданской войны? Их брали на юге, их брали на востоке, их брали на севере…
продолжение следует
Отредактировано: зарун - 12 сен 2018 в 06:42
De die in diem verba volant, scripta manent - изо дня в день слова исчезают, написанное остаётся
- -0.06 / 9
-
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор.
Конечно, на самом деле он начался еще весной 1917-го – ведь мы понимаем, что никакой Октябрьской революции не было, она случилась сразу же, в феврале, а белых шайтанов просто терпели еще какое-то время, по инерции – и тем не менее вечный день открытых убийств официально начался именно сто лет назад, и продолжался он до самого 1953 года.
А тогда, в 1918-м, убивали легко, много и чаще всего лотерейно: убивали помещиков, которые имели несчастье остаться у себя в имениях и наивно думали, что они же никогда не обижали крестьян, чего им бояться; убивали офицеров, которых обычно линчевали на станциях или прямо на улице; убивали священников, которые были самыми очевидными жертвами для пришлых отрядов братишек – церковь-то на горе, колокольня высокая, рядом приходской дом, такое не пропустишь; убивали купцов и мещан, которых брали в заложники в ответ на что-нибудь возмутительное; убивали бывших начальников и бывших господ, и некоторых из них до сих пор не нашли и не похоронили – великого князя Михаила, например, или тех Романовых, кто погиб в Петропавловке.
Это был типично африканский террор, в котором не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство.
Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо.
В деревнях редкие дачники занимаются шашлыками, пока дети бегают и орут. В маленьких городах продавцы почти спят за кассой в «Магните». В мегаполисах слабоумные модники катаются на самокатах. В Петропавловке экскурсии, церковь на горе если не снесли, то восстановили, к офицерам никто ненависти не испытывает, а правнуки помещиков иногда приезжают в те дальние края, где их прадедушки были сначала счастливы, а потом уже не очень, а еще раз потом наступило сейчас.
И в этом самом сейчас, в XXI веке, ни одного человека в России не казнили по политическим причинам, да и вообще никого не казнили. И это то единственное, что действительно хорошо в связи с нашей страшной годовщиной.
https://vz.ru/opinions/2018/9/11/941318.html
Конечно, на самом деле он начался еще весной 1917-го – ведь мы понимаем, что никакой Октябрьской революции не было, она случилась сразу же, в феврале, а белых шайтанов просто терпели еще какое-то время, по инерции – и тем не менее вечный день открытых убийств официально начался именно сто лет назад, и продолжался он до самого 1953 года.
А тогда, в 1918-м, убивали легко, много и чаще всего лотерейно: убивали помещиков, которые имели несчастье остаться у себя в имениях и наивно думали, что они же никогда не обижали крестьян, чего им бояться; убивали офицеров, которых обычно линчевали на станциях или прямо на улице; убивали священников, которые были самыми очевидными жертвами для пришлых отрядов братишек – церковь-то на горе, колокольня высокая, рядом приходской дом, такое не пропустишь; убивали купцов и мещан, которых брали в заложники в ответ на что-нибудь возмутительное; убивали бывших начальников и бывших господ, и некоторых из них до сих пор не нашли и не похоронили – великого князя Михаила, например, или тех Романовых, кто погиб в Петропавловке.
Это был типично африканский террор, в котором не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство.
Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо.
В деревнях редкие дачники занимаются шашлыками, пока дети бегают и орут. В маленьких городах продавцы почти спят за кассой в «Магните». В мегаполисах слабоумные модники катаются на самокатах. В Петропавловке экскурсии, церковь на горе если не снесли, то восстановили, к офицерам никто ненависти не испытывает, а правнуки помещиков иногда приезжают в те дальние края, где их прадедушки были сначала счастливы, а потом уже не очень, а еще раз потом наступило сейчас.
И в этом самом сейчас, в XXI веке, ни одного человека в России не казнили по политическим причинам, да и вообще никого не казнили. И это то единственное, что действительно хорошо в связи с нашей страшной годовщиной.
https://vz.ru/opinions/2018/9/11/941318.html
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.08 / 5
-

Карма: -29.35
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 334
Читатели: 0
Аккаунт заблокирован
Регистрация: 12.09.2018
Сообщений: 334
Читатели: 0
Аккаунт заблокирован
Цитата: Adamantit от 07.09.2018 12:08:11Зачем фантазировать? Ваши учителя оставили много наглядного материала.https://rusidea.org/32030
У заруна даже цифры примерно сошлись
Заводы стоят,одни визажисты и фитнес-тренеры в стране. Ну и блоггеры, конечно. Куда же без них.
Нормальность - это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут.
Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей(Дэн Сяопин)
Нормальность - это асфальтированная дорога: по ней удобно идти, но цветы на ней не растут.
Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей(Дэн Сяопин)
- +0.04 / 3
-

Сочи
58 лет
Карма: -346.38
Регистрация: 21.02.2014
Сообщений: 31,032
Читатели: 6
Регистрация: 21.02.2014
Сообщений: 31,032
Читатели: 6
https://oko-planet.s…asnye.html
"Фактически политика уничтожения опасных для большевиков групп началась еще до взятия ими власти. В соответствии с ленинскими указаниями (основанными еще на опыте 1905 года) первостепенное внимание закономерно уделялось физическому и моральному уничтожению офицерства: “Не пассивность должны проповедовать мы, не простое “ожидание” того, когда “перейдет” войско – нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц”. В результате большевистской агитации на фронте было убито несколько сот офицеров и не меньше покончило самоубийством (только зарегистрированных случаев более 800). Офицеры стали главным объектом красного террора и сразу после октябрьского переворота. Зимой 1917-1918 и весной 1918 г. множество их погибло по пути с распавшегося фронта в поездах и на железнодорожных станциях, где практиковалась настоящая «охота» за ними: такие расправы происходили тогда ежедневно. На то же время приходится массовое истребление офицеров в ряде местностей: Севастополе - 128 чел. 16-17 декабря 1917 и более 800 23-24 января 1918, других городах Крыма – около 1 000 в январе 1918, Одессе – более 400 в январе 1918, Киеве – до 3,5 тыс. в конце января 1918, на Дону – более 500 в феврале - марте 1918 и т.д. Обычно террор связывается с деятельностью "чрезвычайных комиссий", но на первом этапе – в конце 1917 – первой половине 1918 г. основную часть расправ с "классовым врагом" осуществляли местные военно-революционные комитеты, командование отдельных красных отрядов и просто распропагандированные соответствующем духе группы "сознательных борцов", которые, руководствуясь "революционным правосознанием", производили аресты и расстрелы."
Убийства в Севастополе в декабре 1917.
"Фактически политика уничтожения опасных для большевиков групп началась еще до взятия ими власти. В соответствии с ленинскими указаниями (основанными еще на опыте 1905 года) первостепенное внимание закономерно уделялось физическому и моральному уничтожению офицерства: “Не пассивность должны проповедовать мы, не простое “ожидание” того, когда “перейдет” войско – нет, мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц”. В результате большевистской агитации на фронте было убито несколько сот офицеров и не меньше покончило самоубийством (только зарегистрированных случаев более 800). Офицеры стали главным объектом красного террора и сразу после октябрьского переворота. Зимой 1917-1918 и весной 1918 г. множество их погибло по пути с распавшегося фронта в поездах и на железнодорожных станциях, где практиковалась настоящая «охота» за ними: такие расправы происходили тогда ежедневно. На то же время приходится массовое истребление офицеров в ряде местностей: Севастополе - 128 чел. 16-17 декабря 1917 и более 800 23-24 января 1918, других городах Крыма – около 1 000 в январе 1918, Одессе – более 400 в январе 1918, Киеве – до 3,5 тыс. в конце января 1918, на Дону – более 500 в феврале - марте 1918 и т.д. Обычно террор связывается с деятельностью "чрезвычайных комиссий", но на первом этапе – в конце 1917 – первой половине 1918 г. основную часть расправ с "классовым врагом" осуществляли местные военно-революционные комитеты, командование отдельных красных отрядов и просто распропагандированные соответствующем духе группы "сознательных борцов", которые, руководствуясь "революционным правосознанием", производили аресты и расстрелы."
Убийства в Севастополе в декабре 1917.
Времена не выбирают,в них живут и умирают.
Были времена ПОХУЖЕ,небыло времен ПОДЛЕЙ
Были времена ПОХУЖЕ,небыло времен ПОДЛЕЙ
- -0.14 / 10
-

Санкт-Петербург
Карма: -77.59
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
Сообщая о многочисленных заложниках в Харькове, председатель местного губисполкома Кон докладывал в Харьковский совет: «в случае, если буржуазный гад поднимет голову, то прежде всего падут головы заложников»[31]. И падали реально. В Елизаветграде убито в 1921 г. 36 заложников за убийство местного чекиста. Этот факт, передаваемый бурцевским «Общим Делом»[32], найдет себе подтверждение в ряде аналогичных достоверных сообщений, с которыми мы встретимся на последующих страницах. Правило «кровь за кровь» имеет широчайшее применение на практике.
«Большевики восстановили гнусный обычай брать заложников», — писал Локкарт 10-го ноября 1918 г. — «И что еще хуже, они разят своих политических противников, мстя их женам. Когда недавно в Петрограде был опубликован длинный список заложников, большевики арестовали жен не найденных и посадили в тюрьму впредь до явки их мужей»[33]. Арестовывали жен и детей и часто расстреливали их. О таких расстрелах в 1918 г. жен-заложниц за офицеров, взятых в красную армию и перешедших к белым, рассказывают деятели киевского Красного Креста. В марте 1919 г. в Петербурге расстреляли родственников офицеров 86-го пехотного полка, перешедшего к белым[34]. О расстреле заложников в 1919 г. в Кронштадте «родственников офицеров, подозреваемых в том, что они перешли к белой гвардии», говорит записка, поданная в ВЦИК известной левой соц. — рев. Ю. Зубелевич[35]. Заложники легко переходили в группу контр-революционеров. Вот документ, публикуемый «Коммунистом»[36]: «13 го августа военно революционный трибунал 14 армии, рассмотрев дело 10-ти граждан гор. Александрии, взятых заложниками (Бредит, Мальский и др.) признал означенных не заложниками, а контрреволюционерами и постановил всех расстрелять». Приговор был приведен в исполнение на другой день.
Брали сотнями заложниц — крестьянских жен вместе с детьми во время крестьянских восстаний в Тамбовской губернии: они сидели в разных тюрьмах, в том числе в Москве и Петербурге чуть ли не в течение двух лет. Напр., приказ оперштаба тамбовской Ч.К. 1-го сентября 1920 г. объявлял: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор… арестовывать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом и если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество»[37].
Как проводился в жизнь этот приказ, свидетельствуют официальные сообщения, печатавшиеся в тамбовских «Известиях»: 5-го сентября сожжено 5 сел.; 7-го сентября расстреляно более 250 крестьян… В одном кожуховском концентрационном лагере под Москвой (в 1921 — 22 г.) содержалось 313 тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 1 месяца до 16 лет. Среди этих раздетых (без теплых вещей), полуголодных заложников осенью 1921 г свирепствовал сыпной тиф.
Мы найдем длинные списки опубликованных заложников и заложниц за дезертиров, напр., в «Красном воине»[38]. Здесь вводится даже особая рубрика для некоторых заложников: «приговор к расстрелу условно».
Расстреливали и детей и родителей. И мы найдем засвидетельствованные и такие факты. Расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей. Особенно свирепствовал в этом отношении Особый Отдел В.Ч.К., находившийся в ведении полусумасшедшего Кедрова[39]. Он присылал с «фронтов» в Бутырки целыми пачками малолетних «шпионов» от 8—14 лет. Он расстреливал на местах этих малолетних шпионов-гимназистов.
Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.
Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…
Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.
Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…
Прошел еще год. И во время Кронштадтского восстания тысячи были захвачены в качестве заложников. Затем появились новые заложники в лице осужденных по известному процессу социалистов-революционеров смертников. Эти жили до последних дней под угрозой условного расстрела!
И, может быть, только тем, что убийство Воровского произошло на швейцарской территории, слишком гласно для всего мира, объясняется то, что не было в России массовых расстрелов, т. е. о них не было опубликовано и гласно заявлено. Что делается в тайниках Государственного Политического Управления, заменившего собой по имени Чрезвычайные комиссии, мы в полной степени не знаем. Расстрелы продолжаются, но о них не публикуется, или если публикуется, то редко и в сокращенном виде. Истины мы не знаем.
Но мы безоговорочно уже знаем, что после оправдательного приговора в Лозанне большевики недвусмысленно грозили возобновлением террора по отношению к тем, кто считается заложниками. Так Сталин — как сообщали недавно «Дни» и «Vorwärts» — в заседании московского комитета большевиков заявил:
«Голоса всех трудящихся требуют от нас возмездия подстрекателям этого чудовищного убийства.
продолжение следует
«Большевики восстановили гнусный обычай брать заложников», — писал Локкарт 10-го ноября 1918 г. — «И что еще хуже, они разят своих политических противников, мстя их женам. Когда недавно в Петрограде был опубликован длинный список заложников, большевики арестовали жен не найденных и посадили в тюрьму впредь до явки их мужей»[33]. Арестовывали жен и детей и часто расстреливали их. О таких расстрелах в 1918 г. жен-заложниц за офицеров, взятых в красную армию и перешедших к белым, рассказывают деятели киевского Красного Креста. В марте 1919 г. в Петербурге расстреляли родственников офицеров 86-го пехотного полка, перешедшего к белым[34]. О расстреле заложников в 1919 г. в Кронштадте «родственников офицеров, подозреваемых в том, что они перешли к белой гвардии», говорит записка, поданная в ВЦИК известной левой соц. — рев. Ю. Зубелевич[35]. Заложники легко переходили в группу контр-революционеров. Вот документ, публикуемый «Коммунистом»[36]: «13 го августа военно революционный трибунал 14 армии, рассмотрев дело 10-ти граждан гор. Александрии, взятых заложниками (Бредит, Мальский и др.) признал означенных не заложниками, а контрреволюционерами и постановил всех расстрелять». Приговор был приведен в исполнение на другой день.
Брали сотнями заложниц — крестьянских жен вместе с детьми во время крестьянских восстаний в Тамбовской губернии: они сидели в разных тюрьмах, в том числе в Москве и Петербурге чуть ли не в течение двух лет. Напр., приказ оперштаба тамбовской Ч.К. 1-го сентября 1920 г. объявлял: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор… арестовывать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом и если бандиты выступления будут продолжать, расстреливать их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество»[37].
Как проводился в жизнь этот приказ, свидетельствуют официальные сообщения, печатавшиеся в тамбовских «Известиях»: 5-го сентября сожжено 5 сел.; 7-го сентября расстреляно более 250 крестьян… В одном кожуховском концентрационном лагере под Москвой (в 1921 — 22 г.) содержалось 313 тамбовских крестьян в качестве заложников, в числе их дети от 1 месяца до 16 лет. Среди этих раздетых (без теплых вещей), полуголодных заложников осенью 1921 г свирепствовал сыпной тиф.
Мы найдем длинные списки опубликованных заложников и заложниц за дезертиров, напр., в «Красном воине»[38]. Здесь вводится даже особая рубрика для некоторых заложников: «приговор к расстрелу условно».
Расстреливали и детей и родителей. И мы найдем засвидетельствованные и такие факты. Расстреливали детей в присутствии родителей и родителей в присутствии детей. Особенно свирепствовал в этом отношении Особый Отдел В.Ч.К., находившийся в ведении полусумасшедшего Кедрова[39]. Он присылал с «фронтов» в Бутырки целыми пачками малолетних «шпионов» от 8—14 лет. Он расстреливал на местах этих малолетних шпионов-гимназистов.
Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.
Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…
Я лично знаю ряд таких случаев в Москве.
Какое дело кому до каких-то моральных пыток, о которых пытался говорить в своем письме П. А. Кропоткин. В Чрезвычайных Комиссиях не только провинциальных, но и столичных, практиковались самые настоящие истязания и пытки. Естественно, письмо П. А. Кропоткина оставалось гласом вопиющего в пустыне. Если тогда не было расстрелов среди тех, кто был объявлен заложником, то, может быть, потому, что не было покушений…
Прошел еще год. И во время Кронштадтского восстания тысячи были захвачены в качестве заложников. Затем появились новые заложники в лице осужденных по известному процессу социалистов-революционеров смертников. Эти жили до последних дней под угрозой условного расстрела!
И, может быть, только тем, что убийство Воровского произошло на швейцарской территории, слишком гласно для всего мира, объясняется то, что не было в России массовых расстрелов, т. е. о них не было опубликовано и гласно заявлено. Что делается в тайниках Государственного Политического Управления, заменившего собой по имени Чрезвычайные комиссии, мы в полной степени не знаем. Расстрелы продолжаются, но о них не публикуется, или если публикуется, то редко и в сокращенном виде. Истины мы не знаем.
Но мы безоговорочно уже знаем, что после оправдательного приговора в Лозанне большевики недвусмысленно грозили возобновлением террора по отношению к тем, кто считается заложниками. Так Сталин — как сообщали недавно «Дни» и «Vorwärts» — в заседании московского комитета большевиков заявил:
«Голоса всех трудящихся требуют от нас возмездия подстрекателям этого чудовищного убийства.
продолжение следует
Отредактировано: зарун - 18 сен 2018 в 06:31
De die in diem verba volant, scripta manent - изо дня в день слова исчезают, написанное остаётся
- -0.02 / 10
-
Депутат Госдумы Павел Крашенинников представил свою новую книгу «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938». Она продолжает целую серию работ автора по истории права.
Период между 1917 и 1938 годами вместил в себя множество событий. «Здесь происходило и сознательное умерщвление права, и некоторое отрезвление от чудовищных последствий произведенных разрушений, и НЭП, и репрессии», – отмечает Крашенинников в описании книги. Презентацию издания приурочили к столетию принятия постановления «О красном терроре» 5 сентября 1918 года.
В труде содержатся очерки о конституциях, судебной реформе 1920-х годов, подготовке и принятии основных актов репрессивного законодательства и законодательстве времен НЭПа. В работе представлены очерки Н. В. Крыленко, Д. И. Курского, П. И. Стучки, А. Я. Вышинского, Е. Б. Пашуканис, А. Г. Гойхбарга, П .А. Красикова, М. А. Рейснер.
«Предложенный в книге подход позволит увидеть новые грани событий того времени, заметить новую связь между ними, проникнуться духом эпохи», – убежден автор.

Труд высоко оценил профессор и заведующий кафедрой журналистики РГГУ Николай Сванидзе. «Это глубокое исследование того, какое право было в то бесправное время, странное время, страшное время, и Павел Владимирович его исследует очень детально и тщательно», – отозвался он о книге.

С разрешения автора «Право.ru» публикует отрывок из книги «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938», выпущенной издательством «Статут»:
Глава 1. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.
§ 1. Общие рассуждения
О судьбе отечественной мегамашины
На рубеже XVIII–XIX вв. начался постепенный распад мегамашины Российской империи, по сути представлявшей собой разновидность восточной деспотии. Распад такого рода образований, в которых в одних руках монарха объединена политическая, экономическая, военная, религиозная и бюрократическая власть, происходит тогда, когда цель, под осуществление которой и создавалась эта конкретная мегамашина, или уже достигнута, или оказывается в принципе недостижимой.
Для Российской империи одной из важнейших задач была территориальная экспансия и распространение своего влияния на территорию бывшей Византии (Восточной Римской империи). Эта цель обосновывалась почти никогда официально не провозглашавшейся в качестве национальной идеей третьего Рима.
Эта идея, возникшая среди восточноевропейских священнослужителей в XVI в., будучи по своей сути религиозной, служила идеологическим основанием для экспансионистской политики сначала Московского княжества, а затем Московского царства и Российской империи. Будь то завоевание Казанского и Астраханского ханств, покорение Сибири, «прорубание окна в Европу», или, наконец, «восточный вопрос». Собственно, сама эта идеология, уже вне религиозных рамок, особенно пышно расцвела в первой половине XIX столетия в среде так называемых славянофилов. Именно в это время Российская империя достигла своего максимального размера. Ее территория впервые уменьшилась в результате продажи Аляски (1867 г.). После поражения в Крымской войне (1853–1856 гг.) несостоятельность претензий Российской империи на дальнейшую территориальную экспансию стала уже очевидной.
Впрочем, мегамашина Российской империи начала переходить в режим бесцельного функционирования, предопределявшего ее гибель, гораздо раньше. Вначале незаметно, а потом все быстрее и быстрее. Появились целые социальные группы, выходцы из которых выпадали из монолита машины, в которой практически каждый человек был жестко встроен в структуру государства и выполнял ограниченный набор функций без особой надежды изменить свое положение элемента государственного механизма. Так, на рубеже XVIII–XIX вв. все больше было дворян, никогда не служивших ни в армии, ни в бюрократических ведомствах. Сюда же следует отнести разночинцев, интеллигенцию, буржуа, капиталистов и, наконец, рабочий класс.
Подданные становились гражданами и хотели гражданских прав и свобод. Они были ориентированы на демонтаж мегамашины самодержавия и ее замену на более гибкий государственный механизм, учитывающий интересы разных слоев населения. В качестве образцов такого государства принимались наиболее развитые европейские страны.
Проекты реформ молодого М.М. Сперанского, далеко опередившие свое время, мятеж декабристов, народники, «ходившие в народ», и народовольцы, осуществлявшие интенсивную террористическую деятельность, бурное развитие рыночных отношений, революция 1905–1907 гг. и прочие события и явления так или иначе способствовали постепенному демонтажу мегамашины самодержавия и началу построения в стране демократического государства. Было отменено крепостное право, осуществлена глубокая судебная реформа, наконец, учрежден законодательный орган – Государственная Дума.
Естественно, что эти процессы встречали яростное сопротивление. Царствование Николая I по сути было сплошной реакцией на события начала XIX в. В последние годы правления царя-реформатора Александра II были введены беспрецедентные полицейские меры, по сути отменившие действие Судебных уставов 1864 г. Александр III отверг проект конституции, зато издал манифест о незыблемости самодержавия.
Экспансионистские устремления империи в духе идеи воссоздания альтернативной Западу цивилизации с прибиванием щита к вратам Царьграда (Константинополя – Стамбула) все еще были популярны в элитах, особенно консервативного, бывшего славянофильского толка. Однако русско-турецкая война 1877–1878 гг. закончилась по большому счету вничью, а русско-японская война 1904–1905 гг. в рамках «большой азиатской программы» укрепления и усиления влияния России в Восточной Азии Николая II и вовсе завершилась позорным поражением. Следует отметить, что русско-японская война кроме экспансии на Дальний Восток имела своей целью еще и сбить нарастающие протестные настроения. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война…», – сказал В.К. Плеве, министр внутренних дел того времени. Но получилось все наоборот: именно поражение в этой войне и стало одним из факторов, спровоцировавших революцию 1905–1907 гг.
Последняя война с участием Российской империи – Первая мировая также, по всей видимости, рассматривалась реакционными силами как возможность заново вдохнуть идею третьего Рима в уже полуразложившееся тело мегамашины. Россия была заинтересована прежде всего в развале Османской империи и в выходе в Средиземное море, а также не оставляла мечты о великой славянской империи, которая должна была включить чехов, словаков, словенцев, сербов, хорватов и болгар. В частности, министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков 5 апреля 1917 г. объявил, что военные цели России состоят в присоединении австро-венгерской Галиции, населенной преимущественно украинцами и поляками, а также Константинополя и пролива Дарданеллы. Самодержавие уже более месяца как рухнуло, а стереотип третьего Рима все еще сидел в голове даже лидера партии кадетов. Так что говорить об окончательном крушении мегамашины империи в связи с утратой ее цели было преждевременно.
§ 2. КРАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Свержение самодержавия в феврале 1917 г. стало самым тяжелым ударом по всей конструкции империи и было обусловлено прежде всего практически полным разладом машины военной. Солдаты царской армии, воевавшей на полях Первой мировой войны, которая шла уже три с половиной года, не понимали ее смысл. Почти все военачальники отмечали отсутствие патриотизма у солдат, подавляющее число которых были крестьянами, чей политический и гражданский кругозор ограничивался, как правило, околицей родного села. Из всех воюющих армий русская была, пожалуй, в наихудшем положении. Кроме того что она несла огромные потери, состояние продовольственного снабжения в результате чудовищной коррупции в высших эшелонах власти держало ее на грани голода. Солдатам было ясно, что их хозяйства в полном расстройстве и что там начался настоящий голод.
В итоге защитить самодержавие от восставших в Петрограде рабочих оказалось некому – солдаты и даже казаки переходили на сторону восставших. После отречения Николая II власть фактически приняло на себя руководство Государственной Думы, сформировавшее Временное правительство, которое состояло в основном из представителей партии кадетов, ставивших своей целью создание правового государства.
Однако сама Дума в свое время была избрана по сложной и недемократической системе и вряд ли по праву могла выступать от имени всего народа. В Петрограде и в других городах стали спонтанно возникать Советы рабочих и солдатских депутатов, претендовавшие на более справедливое выражение народных интересов. Советы, являвшие собой как бы самозваный социалистический парламент, включали социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов (меньшевиков и большевиков).
Возникло так называемое двоевластие – наличие двух конфликтующих систем управления, представлявших собой по сути вполне демократические институты. Казалось, механизм мегамашины окончательно разрушен. Однако ослабление или полное исчезновение механизмов управления страной имело вполне предсказуемые последствия.
Началось широкомасштабное крестьянское восстание, имевшее своей целью осуществление вожделенного «черного передела», т.е. перераспределения всех сельскохозяйственных угодий по числу едоков в каждом хозяйстве («все отнять и поделить»). По всей стране заполыхали помещичьи усадьбы. Крестьяне силой отбирали землю у помещиков и крупных землевладельцев, иногда не останавливаясь и перед их физическим уничтожением.
1 (14) марта 1917 г. Петроградский совет издал Приказ № 1 по гарнизону Петроградского военного округа (а фактически – по армии), в котором солдатам было предложено составлять свои комитеты и от них выделять делегатов в Советы. Политическое руководство армией передавалось комитетам, а офицерам предоставлялись только чисто военные функции, даже оружие им должно было выдаваться лишь по мере надобности, но не по их требованию. Это еще больше дезорганизовало фронтовые армии. Начались солдатские бунты, порой сопровождавшиеся убийствами командиров. Резко возросло число дезертиров – солдаты стремились поскорей вернуться в свои села, чтобы не опоздать к участию в переделе земли.
На окраинах империи началось движение за независимость. 17 мая в Киеве было организовано временное правительство Украины – Центральная Рада, возглавлявшаяся видным историком М.С. Грушевским. Временное правительство в Петрограде отказалось признать Раду, зато ряд льгот был предоставлен Финляндии, хотя вопрос о ее независимости был отложен до созыва Учредительного собрания. В Прибалтике образовывались свои правительства. Армения и Грузия ожидали созыва Учредительного собрания. В мае в Москве собрался съезд мусульман России. Но Временное правительство ничего никому не обещало.
Свой вклад в доламывание мегамашинных механизмов управления вносил и весьма немногочисленный – менее 3% от всего населения, – но политически очень активный рабочий класс, сосредоточивший в себе все противоречия бурной модернизации российской экономики.
Временное правительство, в первые два состава которого входили в основном кадеты, а в третий – меньшевики и эсеры, не смогло ответить на эти вызовы, выражавшиеся в развале экономики, трудностях с продовольственным снабжением городов, разложении воюющей армии, отделении все новых и новых территорий от государства. Это были представители городской элиты, с одной стороны, слепо верящие в «народ», а с другой – не знавшие и потому боявшиеся его. Устои государства – юстиция, администрация, армия рушились. Над правом глумились, власть во всех ее формах была поставлена под сомнение.
Население в разраставшемся хаосе испытывало все больший дискомфорт, и прекраснодушные мечты либералов превратить Россию в «самую свободную страну в мире» воспринимало с усиливающимся раздражением.
...
Период между 1917 и 1938 годами вместил в себя множество событий. «Здесь происходило и сознательное умерщвление права, и некоторое отрезвление от чудовищных последствий произведенных разрушений, и НЭП, и репрессии», – отмечает Крашенинников в описании книги. Презентацию издания приурочили к столетию принятия постановления «О красном терроре» 5 сентября 1918 года.
В труде содержатся очерки о конституциях, судебной реформе 1920-х годов, подготовке и принятии основных актов репрессивного законодательства и законодательстве времен НЭПа. В работе представлены очерки Н. В. Крыленко, Д. И. Курского, П. И. Стучки, А. Я. Вышинского, Е. Б. Пашуканис, А. Г. Гойхбарга, П .А. Красикова, М. А. Рейснер.
«Предложенный в книге подход позволит увидеть новые грани событий того времени, заметить новую связь между ними, проникнуться духом эпохи», – убежден автор.

В книге я попытался показать правовую историю того времени, разделить её на отрасли, не забыв о насущном законодательстве, в частности, семейном. Привожу конкретные законодательные акты, декреты. То, что происходило после октябрьского переворота 1917 года и на протяжении последующих 20 лет, можно назвать законодательством легального насилия.
Павел Крашенинников
Павел Крашенинников
Труд высоко оценил профессор и заведующий кафедрой журналистики РГГУ Николай Сванидзе. «Это глубокое исследование того, какое право было в то бесправное время, странное время, страшное время, и Павел Владимирович его исследует очень детально и тщательно», – отозвался он о книге.
С разрешения автора «Право.ru» публикует отрывок из книги «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938», выпущенной издательством «Статут»:
Глава 1. РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.
§ 1. Общие рассуждения
О судьбе отечественной мегамашины
На рубеже XVIII–XIX вв. начался постепенный распад мегамашины Российской империи, по сути представлявшей собой разновидность восточной деспотии. Распад такого рода образований, в которых в одних руках монарха объединена политическая, экономическая, военная, религиозная и бюрократическая власть, происходит тогда, когда цель, под осуществление которой и создавалась эта конкретная мегамашина, или уже достигнута, или оказывается в принципе недостижимой.
Для Российской империи одной из важнейших задач была территориальная экспансия и распространение своего влияния на территорию бывшей Византии (Восточной Римской империи). Эта цель обосновывалась почти никогда официально не провозглашавшейся в качестве национальной идеей третьего Рима.
Эта идея, возникшая среди восточноевропейских священнослужителей в XVI в., будучи по своей сути религиозной, служила идеологическим основанием для экспансионистской политики сначала Московского княжества, а затем Московского царства и Российской империи. Будь то завоевание Казанского и Астраханского ханств, покорение Сибири, «прорубание окна в Европу», или, наконец, «восточный вопрос». Собственно, сама эта идеология, уже вне религиозных рамок, особенно пышно расцвела в первой половине XIX столетия в среде так называемых славянофилов. Именно в это время Российская империя достигла своего максимального размера. Ее территория впервые уменьшилась в результате продажи Аляски (1867 г.). После поражения в Крымской войне (1853–1856 гг.) несостоятельность претензий Российской империи на дальнейшую территориальную экспансию стала уже очевидной.
Впрочем, мегамашина Российской империи начала переходить в режим бесцельного функционирования, предопределявшего ее гибель, гораздо раньше. Вначале незаметно, а потом все быстрее и быстрее. Появились целые социальные группы, выходцы из которых выпадали из монолита машины, в которой практически каждый человек был жестко встроен в структуру государства и выполнял ограниченный набор функций без особой надежды изменить свое положение элемента государственного механизма. Так, на рубеже XVIII–XIX вв. все больше было дворян, никогда не служивших ни в армии, ни в бюрократических ведомствах. Сюда же следует отнести разночинцев, интеллигенцию, буржуа, капиталистов и, наконец, рабочий класс.
Подданные становились гражданами и хотели гражданских прав и свобод. Они были ориентированы на демонтаж мегамашины самодержавия и ее замену на более гибкий государственный механизм, учитывающий интересы разных слоев населения. В качестве образцов такого государства принимались наиболее развитые европейские страны.
Проекты реформ молодого М.М. Сперанского, далеко опередившие свое время, мятеж декабристов, народники, «ходившие в народ», и народовольцы, осуществлявшие интенсивную террористическую деятельность, бурное развитие рыночных отношений, революция 1905–1907 гг. и прочие события и явления так или иначе способствовали постепенному демонтажу мегамашины самодержавия и началу построения в стране демократического государства. Было отменено крепостное право, осуществлена глубокая судебная реформа, наконец, учрежден законодательный орган – Государственная Дума.
Естественно, что эти процессы встречали яростное сопротивление. Царствование Николая I по сути было сплошной реакцией на события начала XIX в. В последние годы правления царя-реформатора Александра II были введены беспрецедентные полицейские меры, по сути отменившие действие Судебных уставов 1864 г. Александр III отверг проект конституции, зато издал манифест о незыблемости самодержавия.
Экспансионистские устремления империи в духе идеи воссоздания альтернативной Западу цивилизации с прибиванием щита к вратам Царьграда (Константинополя – Стамбула) все еще были популярны в элитах, особенно консервативного, бывшего славянофильского толка. Однако русско-турецкая война 1877–1878 гг. закончилась по большому счету вничью, а русско-японская война 1904–1905 гг. в рамках «большой азиатской программы» укрепления и усиления влияния России в Восточной Азии Николая II и вовсе завершилась позорным поражением. Следует отметить, что русско-японская война кроме экспансии на Дальний Восток имела своей целью еще и сбить нарастающие протестные настроения. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война…», – сказал В.К. Плеве, министр внутренних дел того времени. Но получилось все наоборот: именно поражение в этой войне и стало одним из факторов, спровоцировавших революцию 1905–1907 гг.
Последняя война с участием Российской империи – Первая мировая также, по всей видимости, рассматривалась реакционными силами как возможность заново вдохнуть идею третьего Рима в уже полуразложившееся тело мегамашины. Россия была заинтересована прежде всего в развале Османской империи и в выходе в Средиземное море, а также не оставляла мечты о великой славянской империи, которая должна была включить чехов, словаков, словенцев, сербов, хорватов и болгар. В частности, министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков 5 апреля 1917 г. объявил, что военные цели России состоят в присоединении австро-венгерской Галиции, населенной преимущественно украинцами и поляками, а также Константинополя и пролива Дарданеллы. Самодержавие уже более месяца как рухнуло, а стереотип третьего Рима все еще сидел в голове даже лидера партии кадетов. Так что говорить об окончательном крушении мегамашины империи в связи с утратой ее цели было преждевременно.
§ 2. КРАХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Свержение самодержавия в феврале 1917 г. стало самым тяжелым ударом по всей конструкции империи и было обусловлено прежде всего практически полным разладом машины военной. Солдаты царской армии, воевавшей на полях Первой мировой войны, которая шла уже три с половиной года, не понимали ее смысл. Почти все военачальники отмечали отсутствие патриотизма у солдат, подавляющее число которых были крестьянами, чей политический и гражданский кругозор ограничивался, как правило, околицей родного села. Из всех воюющих армий русская была, пожалуй, в наихудшем положении. Кроме того что она несла огромные потери, состояние продовольственного снабжения в результате чудовищной коррупции в высших эшелонах власти держало ее на грани голода. Солдатам было ясно, что их хозяйства в полном расстройстве и что там начался настоящий голод.
В итоге защитить самодержавие от восставших в Петрограде рабочих оказалось некому – солдаты и даже казаки переходили на сторону восставших. После отречения Николая II власть фактически приняло на себя руководство Государственной Думы, сформировавшее Временное правительство, которое состояло в основном из представителей партии кадетов, ставивших своей целью создание правового государства.
Однако сама Дума в свое время была избрана по сложной и недемократической системе и вряд ли по праву могла выступать от имени всего народа. В Петрограде и в других городах стали спонтанно возникать Советы рабочих и солдатских депутатов, претендовавшие на более справедливое выражение народных интересов. Советы, являвшие собой как бы самозваный социалистический парламент, включали социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократов (меньшевиков и большевиков).
Возникло так называемое двоевластие – наличие двух конфликтующих систем управления, представлявших собой по сути вполне демократические институты. Казалось, механизм мегамашины окончательно разрушен. Однако ослабление или полное исчезновение механизмов управления страной имело вполне предсказуемые последствия.
Началось широкомасштабное крестьянское восстание, имевшее своей целью осуществление вожделенного «черного передела», т.е. перераспределения всех сельскохозяйственных угодий по числу едоков в каждом хозяйстве («все отнять и поделить»). По всей стране заполыхали помещичьи усадьбы. Крестьяне силой отбирали землю у помещиков и крупных землевладельцев, иногда не останавливаясь и перед их физическим уничтожением.
1 (14) марта 1917 г. Петроградский совет издал Приказ № 1 по гарнизону Петроградского военного округа (а фактически – по армии), в котором солдатам было предложено составлять свои комитеты и от них выделять делегатов в Советы. Политическое руководство армией передавалось комитетам, а офицерам предоставлялись только чисто военные функции, даже оружие им должно было выдаваться лишь по мере надобности, но не по их требованию. Это еще больше дезорганизовало фронтовые армии. Начались солдатские бунты, порой сопровождавшиеся убийствами командиров. Резко возросло число дезертиров – солдаты стремились поскорей вернуться в свои села, чтобы не опоздать к участию в переделе земли.
На окраинах империи началось движение за независимость. 17 мая в Киеве было организовано временное правительство Украины – Центральная Рада, возглавлявшаяся видным историком М.С. Грушевским. Временное правительство в Петрограде отказалось признать Раду, зато ряд льгот был предоставлен Финляндии, хотя вопрос о ее независимости был отложен до созыва Учредительного собрания. В Прибалтике образовывались свои правительства. Армения и Грузия ожидали созыва Учредительного собрания. В мае в Москве собрался съезд мусульман России. Но Временное правительство ничего никому не обещало.
Свой вклад в доламывание мегамашинных механизмов управления вносил и весьма немногочисленный – менее 3% от всего населения, – но политически очень активный рабочий класс, сосредоточивший в себе все противоречия бурной модернизации российской экономики.
Временное правительство, в первые два состава которого входили в основном кадеты, а в третий – меньшевики и эсеры, не смогло ответить на эти вызовы, выражавшиеся в развале экономики, трудностях с продовольственным снабжением городов, разложении воюющей армии, отделении все новых и новых территорий от государства. Это были представители городской элиты, с одной стороны, слепо верящие в «народ», а с другой – не знавшие и потому боявшиеся его. Устои государства – юстиция, администрация, армия рушились. Над правом глумились, власть во всех ее формах была поставлена под сомнение.
Население в разраставшемся хаосе испытывало все больший дискомфорт, и прекраснодушные мечты либералов превратить Россию в «самую свободную страну в мире» воспринимало с усиливающимся раздражением.
...
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.10 / 8
-
Цитата: Гималаев Илья от 18.09.2018 09:02:16Депутат Госдумы Павел Крашенинников представил свою новую книгу «Страсти по праву: Очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917–1938». Она продолжает целую серию работ автора по истории права.§ 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВЕТСКОЙ МЕГАМАШИНЫ
...
Однако была одна «такая партия», которая считала, что может легко справиться со всеми проблемами, поскольку вооружена единственно правильным научным взглядом на пути развития истории – марксизмом с его золотым ключиком – классовым подходом, способным открыть любые двери. Только партия эта не пользовалась значительной общественной поддержкой и была весьма малочисленной. Поэтому для Ленина и его соратников приход к власти парламентским путем был исключен. Совсем иное дело Советы – это рыхлое изменчивое образование, – которые могут быть подчинены большевикам. Тем более что в силу слабости Временного правительства все больше рычагов управления переходило к ним. Захватив большинство в Петросовете и главное – разложив армию, прежде всего Петроградский гарнизон, который называли «санкт-петербургским беговым обществом», большевики вместе с левыми эсерами просто-напросто разогнали Временное правительство, осуществив тем самым октябрьский переворот.
Пообещав мир народам (выход России из мировой войны), землю крестьянам, фабрики рабочим, а нациям право на самоопределение, политический гений Ленина сумел свести в одну точку весьма разнородные революционные движения, как бы объявив большинству населения: «Мы с вами одной крови». Поэтому какого-либо массового протеста самовольный захват власти большевиками не вызвал. Большинство обывателей Великую Социалистическую Революцию просто не заметили.
Конечно, против были политические партии, бесцеремонно выкинутые из политического процесса, но организовать сопротивление они не смогли. Разрозненные выступления гарнизонов и юнкерских училищ, в основном в Москве, были подавлены силой оружия немногочисленной рабочей гвардии. Так или иначе большевики получили кредит доверия от большинства населения бывшей Российской империи.
Однако очень быстро выяснилось, что представления о прекрасном у большевиков и представителей упомянутых революционных движений на самом деле совсем не совпадают. Реальными программными установками РСДРП(б)–РКП(б) были национализация земли, установление государственного капитализма и распространение влияния социалистического государства на народы если не всего мира, то по крайней мере Европы.
Начались крестьянские волнения, вызванные жестокостью продотрядов, действовавших при поддержке армейских частей или сил ЧК. К июню 1918 г. волнения приняли форму настоящей крестьянской войны. В июле – августе 120 крестьянских восстаний – большевики называли их «кулацкими мятежами», хотя в них принимали участие крестьяне всех категорий, – вспыхнули в губерниях, контролируемых новыми властями. Возникли разногласия со всеми учреждениями, которые одновременно участвовали и в сломе прежних органов управления, и в борьбе за утверждение и расширение своей собственной компетенции: с заводскими, фабричными, районными и профсоюзными комитетами, с социалистическими партиями, Красной гвардией и даже с Советами. За несколько недель эти учреждения были лишены своей власти, подчинены партии большевиков или исчезли.
Лозунг «Вся власть Советам» обернулся властью большевистской партии над Советами. Что же касается «рабочего контроля» – еще одного важнейшего требования пролетариев, то он столь же быстро превратился в контроль государства, именующего себя «рабочим», над предприятиями и трудящимися. Между властью и рабочим классом, страдавшим от безработицы, постоянного снижения покупательной способности и голода, постепенно росло взаимное непонимание. Уже в декабре 1917 г. новая власть столкнулась с волной рабочих демонстраций и стачек.
Роспуск оппозиционных Советов, удаление 14 июня 1918 г. меньшевиков и эсеров из Всероссийского ЦИК вызвало демонстрации, манифестации и попытки стачек во многих рабочих кварталах, где продовольственное снабжение продолжало между тем ухудшаться. Во второй половине мая и в июне 1918 г. были потоплены в крови многочисленные рабочие манифестации в Сормово, Ярославле, Туле, а также в таких индустриальных центрах Урала, как Нижний Тагил, Белорецк, Златоуст, Екатеринбург.
В начале июля происходит восстание левых эсеров, сопровождавшееся убийством германского посла Вильгельма фон Мирбаха и арестом Ф.Э.Дзержинского. Для большевиков ситуация была критической.
Национальные окраины бывшей Российской империи одна за другой объявляли о своей независимости, учреждали собственные государства со своими отнюдь не большевистскими правительствами. При этом новой власти было необходимо сохранить за собой зерно Украины, нефть и другие полезные ископаемые Кавказа, словом, позаботиться о жизненных интересах нового государства, которое стремительно утверждалось территориально. Так что о праве наций на самоопределение пришлось хотя бы временно забыть.
Оживились оппозиционные политические силы – по сути, все остальные партии, существовавшие в Российской империи. Эсеры, изначально прокрестьянская партия, не гнушавшаяся террористической деятельностью, осуществила ряд покушений на руководителей большевиков, в том числе и на Ленина. Промонархические и либеральные партии включились в создание белого движения. Национальные окраины оказывали вооруженное сопротивление новой власти.
Во всех этих неприятностях большевики видели (точнее, предлагали видеть) не провал своей политики, выразившийся в ограблении крестьян, развале промышленности, неадекватности национальной политики, а результат широкого контрреволюционного заговора. Стихийные выступления крестьян, рабочих и даже революционных матросов они объясняли происками врагов – меньшевиков, эсеров, «старорежимных» специалистов и прочая, прочая. После нередко кровавого подавления восстаний они искали – и находили – «врагов народа» среди их зачинщиков и тех, кто был рядом.
5 сентября 1918 г. СНК было принято постановление «О красном терроре», в соответствии с которым, в частности, подлежали расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Фактически красный террор был объявлен значительной части населения. Следует отметить, что был и белый террор, выразившийся в массовых расстрелах на территориях, управляемых представителями белого движения, а также в убийствах (покушениях) на политических деятелей советской власти.
Большевики вынуждены были срочно создавать и наращивать репрессивный аппарат в виде ВЧК и революционных трибуналов.
Вскоре началась гражданская война, потребовавшая создания сильной военной машины. Обращаем внимание на то, что тезис о превращении войны империалистической в войну гражданскую содержался еще в дореволюционных программных документах Ленина.
Сложная международная обстановка, прежде всего в связи с продолжающейся мировой войной и нежеланием западных государств признавать власть Советов, вынуждала большевиков создавать соответствующее международное ведомство, как-то охранять границы государства и т.д. и т.п.
Короче говоря, большевикам, в определенной степени неожиданно для самих себя, пришлось строить новое «социалистическое» государство. Ведь изначально вся их операция по захвату власти строилась на ничем не обоснованном утверждении Ленина, что социалистическая революция в отсталой России, где буржуазные отношения не только не развились в достаточной мере, но и до конца не сформировались, станет тем фитилем, который подожжет мировой пожар революции. А уж там мировое социалистическое правительство как-нибудь разберется, что делать с аграрной Россией. Собственно, все свои труды по поводу того, что должно представлять собой Российское социалистическое государство, Ленин написал уже после октябрьского переворота, когда надежды на мировую революцию рухнули.
Уже к концу гражданской войны большевикам удалось в целом создать механизм нового государства. И этот механизм оказался механизмом мегамашины. Политическая, экономическая, военная, бюрократическая и идеологическая власть находилась в одних руках – партийной верхушки, впоследствии редуцированной к персоне Вождя. Не огосударствленным оставалось крестьянство, но этот вопрос был решен несколько позже в ходе насильственной коллективизации. Отсутствие религии, являющейся непременным атрибутом мегамашины, компенсировалось догматическим учением, а основатели этого учения впоследствии были, по сути, обожествлены. К моменту воссоздания в 1922 г. новой империи – СССР – ее территория составляла большую часть Российской империи, за исключением Польши, Финляндии и Прибалтики. Правда, борьба с басмачеством в Средней Азии продолжалась до начала 30-х годов.
Вряд ли большевики осознанно стремились к воссозданию империи. Все-таки они произошли от демократического движения – социал-демократии и искренне ненавидели самодержавие. Однако, действуя реактивным образом, «по обстоятельствам», не желая, да и не умея вести дискуссию не только с оппонентами, но и со своими партнерами – левыми эсерами, а уж тем более делиться с ними властью, будучи наглухо зашоренными догмами «классового подхода», большевики в итоге, как в известном анекдоте, вновь оказались «с автоматом Калашникова».
Но главной причиной реинкарнации мегамашины стало, так сказать, сопротивление материала, то есть огромного большинства (до 80%) сельского населения, политически абсолютно неграмотного и в основной своей массе признававшего над собой только власть сильной руки.
Мегамашина, как птица феникс, самовозродилась, обретя новую цель, предложенную большевиками, – построение нового, справедливого общества, практически рая на земле.
Реинкарнация мегамашины, обретшей новую цель своего существования, и раньше случалась в истории человечества. Отметим, однако, что например, Восточная Римская империя – Византия, обретя новую цель – распространение христианства по всему миру, смогла просуществовать более 1000 лет. Коммунистическая мегамашина просуществовала гораздо меньше. Как говорится, почувствуйте разницу.
Как и при царизме, мотором новой мегамашины стала бюрократия, в полном соответствии с учением Маркса приватизировавшая новое государство. Как бы оправдываясь, Ленин на закате жизни писал: «Можно прогнать царя, – прогнать помещиков, – прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» бюрократизм в крестьянской стране, нельзя «стереть с лица земли». Можно лишь медленным, упорным трудом его уменьшать». Уменьшать его он предлагал в своем излюбленном стиле – путем репрессий. «А к суду за волокиту привлекали? … Сколько вы посадили их в тюрьму за волокиту?». Вот уж в чем в чем, а в умении «привлекать к суду» бюрократии нет равных на всей земле, игра с ней на этом поле была заранее проигрышной.
Так что поставленная задача изначально была нереализуема. Последующим руководителям государства в результате пришлось выдавать желаемое за действительное: диктатуру партии, а точнее репрессивных органов, – за диктатуру пролетариата, а последнюю – за диктатуру большинства. Саму диктатуру – за невиданную доселе демократию. Произвол правящей верхушки – за некое принципиально новое «социалистическое – советское право» и т.д. и т.п. Делалось это не без успеха на протяжении более 70 лет. Суть процесса вкратце изложена в известном анекдоте:
– Доктор, со мною происходит что-то странное: думаю одно, говорю другое, делаю третье …
– Идите, идите, батенька, от марксизма не лечу…
Интересно, что, несмотря на отвержение всего буржуазного, словосочетание «советское право» пришло тоже оттуда – от «буржуазной» заграницы как оценка нормотворчества советской власти. Возможно, сказались трудности перевода и что-то вроде «право при советской власти» было переведено этим двусмысленным словосочетанием. Как пишет Б.М. Гонгало, «и только позже словосочетание «советское право» стало использоваться в СССР без всякой иронии (напротив, с гордостью) для обозначения нового, социалистического права, чтобы противопоставить его буржуазному праву».
https://pravo.ru/news/205031/?desc_chrono_8_2=
Павел Крашенинников – заслуженный юрист России, депутат и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор.
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.08 / 6
-
Карма: +3.24
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 2,027
Читатели: 4
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 2,027
Читатели: 4
Цитата: Гималаев Илья от 18.09.2018 09:02:16Для Российской империи одной из важнейших задач была территориальная экспансия и распространение своего влияния на территорию бывшей Византии (Восточной Римской империи). Эта цель обосновывалась почти никогда официально не провозглашавшейся в качестве национальной идеей третьего Рима.Знаете, еще немного и "Завещание Петра I" в ход пойдет. Такого концентрированного даже не западнического, а западного бреда давно не слышал среди якобы наших. Территориальная экспансия - это якобы идея идеологически-религиозная, из Византии. То есть не казанцы, крымчаки и ногайцы заставили решить вопрос с ними кардинально, в заветы Софьи Палеолог, не иначе. Не огромный малонаселенный территориальный массив на востоке, богатый пушниной заставил покорить его полуразбойничими казацко-новгородскими ватагами, это греки подсказали. А решение проблем с крайне опасными соседями на западе не могло идти без наущения попов. Война 1877-78 гг, конечно, "закончилась вничью".
Эта идея, возникшая среди восточноевропейских священнослужителей в XVI в., будучи по своей сути религиозной, служила идеологическим основанием для экспансионистской политики сначала Московского княжества, а затем Московского царства и Российской империи. Будь то завоевание Казанского и Астраханского ханств, покорение Сибири, «прорубание окна в Европу», или, наконец, «восточный вопрос». Собственно, сама эта идеология, уже вне религиозных рамок, особенно пышно расцвела в первой половине XIX столетия в среде так называемых славянофилов. Именно в это время Российская империя достигла своего максимального размера. Ее территория впервые уменьшилась в результате продажи Аляски (1867 г.). После поражения в Крымской войне (1853–1856 гг.) несостоятельность претензий Российской империи на дальнейшую территориальную экспансию стала уже очевидной.
///////////////
Экспансионистские устремления империи в духе идеи воссоздания альтернативной Западу цивилизации с прибиванием щита к вратам Царьграда (Константинополя – Стамбула) все еще были популярны в элитах, особенно консервативного, бывшего славянофильского толка. Однако русско-турецкая война 1877–1878 гг. закончилась по большому счету вничью, а русско-японская война 1904–1905 гг. в рамках «большой азиатской программы» укрепления и усиления влияния России в Восточной Азии Николая II и вовсе завершилась позорным поражением. Следует отметить, что русско-японская война кроме экспансии на Дальний Восток имела своей целью еще и сбить нарастающие протестные настроения. «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война…», – сказал В.К. Плеве, министр внутренних дел того времени. Но получилось все наоборот: именно поражение в этой войне и стало одним из факторов, спровоцировавших революцию 1905–1907 гг.
Человек находится в полном плену западных исторических концепций, причем не первой свежести. Другого, способного что-то объективно написать на тему нет?
- +0.04 / 2
-
Цитата: SMF от 18.09.2018 11:38:05Знаете, еще немного и "Завещание Петра I" в ход пойдет. Такого концентрированного даже не западнического, а западного бреда давно не слышал среди якобы наших. Территориальная экспансия - это якобы идея идеологически-религиозная, из Византии. То есть не казанцы, крымчаки и ногайцы заставили решить вопрос с ними кардинально, в заветы Софьи Палеолог, не иначе. Не огромный малонаселенный территориальный массив на востоке, богатый пушниной заставил покорить его полуразбойничими казацко-новгородскими ватагами, это греки подсказали. А решение проблем с крайне опасными соседями на западе не могло идти без наущения попов. Война 1877-78 гг, конечно, "закончилась вничью".Тут всякому не угодишь.
Человек находится в полном плену западных исторических концепций, причем не первой свежести. Другого, способного что-то объективно написать на тему нет?
Кому-то жития святых новомучеников не нравятся, кому-то либеральные профессора.

Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.06 / 5
-

Мемориальный камень в память жертв кровавого террора установили в Нижегородской области
Камень привезли потомки земского врача Салищева, которого расстреляли сто лет назад
В выдержке из газеты «Правда» (сентябрь, 1918) говорится о том, что в общей сложности во время карательной кампании было убито более 600 человек. Многих спихивали в реку, кого-то хоронили наспех на берегу так, что весной тела оказывались на поверхности водоема.

Открытие памятника жертвам массовых расстрелов 1918 года
Расстрелы начались в Бортсурманах, где в ходе подавления антисоветского кулацкого мятежа были убиты 30 крестьян. Потом массовые казни переместились в Курмыш. Говорят, в реальности жертвами стала тысяча человек, однако проверить эту информацию невозможно - никто не работал с архивами.
- В 2000 году Нижегородская епархия причислила погибших тогда священников к лику святых, а крестьян, насколько я знаю, поминают сегодня как мучеников. Непонятно, почему мучениками прославлены лишь пятьдесят человек… - задумчиво произнесла Елена.
По словам Елены Аникиной, долгое время считалось, что отец трех мальчиков Николай Салищев, спасая других от дифтерии, заразился и умер. Правда вскрылась много позже, в 90-х годах. Внучка одного из сыновей Салищева прочитала рассказ Чехова о земском враче, умершем от дифтерии.
- О, прямо с нашего деда списано! - воскликнула девочка.
Старик не сдержался и расплакался.
- Не от болезни он умер…
Все три сына земского врача (младшему было восемь) прекрасно помнили, как ночью к ним домой пришли люди в кожанках. Отец собрался, ушел и больше не вернулся.
- В силу того, что дети были маленькие, об этом никто старался не вспоминать. Тогда без мужей остались четыре женщины, огромное количество детей, голод, разруха. Очень страшно, - рассказала Адушева.
Установить памятник планировалось ко дню памяти жертв кровавого террора - 9 сентября. На все про все у Елены Аникиной было полтора месяца. Главной проблемой стал не выбор камня или его транспортировка из Нижнего Новгорода, а выбор места под памятник.
- Мы советовались с местными жителями, но сколько людей, столько и мнений. В итоге мы наткнулись на замечательный парк с аллеей. Когда я ее увидела, подумала: «Напрашивается стать памятной». Потому что неподалеку стоит памятник войну Великой Отечественной войны, а в другой стороне - памятник жертвам кулацкого мятежа, - рассказала Адушева.
Мемориальный памятник установили на перекрестке, где фоном является действующий Покровский храм. А под ногами - старое церковное кладбище, от которого уже не осталось и следа. Открытие состоялось 8 сентября. На нем присутствовали многочисленные потомки Салищева и несколько сельчан.
- Николай не был ни белогвардейцем, ни кулаком. Он просто лечил людей, - рассказала правнучка расстрелянного врача. - Страшная трагедия произошла на этих улицах. От большинства убитых людей ни осталось ни имен, ни могил. Память стерта о них, как ластиком.
На камне надпись: «Памяти жертв трагических событий 1918 г. в Курмышском уезде. Имена их ты сам, Господи, знаешь. 2018».
https://www.nnov.kp.ru/daily/26882/3927270/
Отредактировано: Гималаев Илья - 20 сен 2018 в 08:55
- -0.08 / 8
-
Дискуссия
Новая
100-летие красного террора. О причинах проведения «красного террора» по отношению к уральским священникам и верующим
Свидетельства и хроники красного террора на Урале100-летие красного террора. О причинах проведения «красного террора» по отношению к уральским священникам и верующим
О причинах проведения «красного террора» по отношению к уральским священникам и верующим корреспондент ЕАН побеседовал с Андреем Печериным, научным сотрудником кафедры Церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской православной духовной семинарии.
Ровно 100 лет назад 5 сентября Совет народных комиссаров РСФСР провозгласил декрет «О красном терроре».
К этой дате в Екатеринбурге приурочено открытие выставки «Время Каина. Красный террор на Урале». Экспозиция посвящена теме репрессий по отношению к религиозным деятелям Русской православной церкви. Сами организаторы называют выставку попыткой «показать неполитическую альтернативу» преследованиям.
О причинах проведения «красного террора» по отношению к уральским священникам и верующим корреспондент ЕАН побеседовал с Андреем Печериным, научным сотрудником кафедры Церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской православной духовной семинарии.
— Андрей, 5 сентября 1918 года считается официальной датой красного террора. До этого времени на Урале было относительно спокойно?
— Нет. На самом деле декрет «О красном терроре» был лишь одним из распоряжений. До этого выпускались распоряжения, санкционирующие репрессии по отношению к так называемым контрреволюционерам. Если говорить про Урал, то здесь насилие по отношению к священникам и простым верующим началось задолго до выпуска декрета.
— С какого времени?
—Начиная с весны 1918 года, были локальные аресты, некоторые из заключенных священников были впоследствии расстреляны. Как таковой террор в Екатеринбургской епархии, которая почти совпадала с границами нынешней Свердловской области, начинается с лета — по мере отступления Красной армии во время Гражданской войны. Точкой отсчета можно считать Далматовский бой, который состоялся 10 июля 1918 года. После этого красноармейцы, уходя с занятых районов, берут священников в заложники или расстреливают их на месте. В июне-июле наблюдаются репрессии в южных уездах уральского региона, с августа террор перемещается на север — в Невьянск и Верхотурский уезд. По этой же причине начало красного террора в Пермском крае принято отсчитывать с осени, поскольку к тому времени белая армия дошла до Прикамья.
— Какие особенности террора можно отметить с июня по июль 1918 года на Урале?
— Именно в этот период мы видим особый накал — проявляются зверства, последствия которых были обнаружены белыми в занимаемых районах. Например, в 20-х числах июля 1918 года, в лесу около станции Синарской в Камышловском уезде, были найдены тела жертв советской власти — 80-летнего священника села Колчеданского о. Стефана Луканина, диаконов того же села — Нестора Гудзовского и Георгия Бегмы, а также 80-летнего протоиерея Василия Победоносцева с Каменского завода и тело неизвестной женщины. Все трупы имели явные следы издевательства. На теле отца Стефана насчитали 19 штыковых ран, левая рука отесана острым оружием. У Гудзовского выкололи глаза, а пальцы левой руки заострены, как карандаш. У Бегмы изуродовали лицо, у женщины отрезали грудь. Волосы на головах священнослужителей были выдерганы и частью опалены. Еще можно вспомнить о телах священника Александра Попова и прихожан, которых большевики арестовали и в селе Травянском того же уезда на протяжении ночи фактически пытали. Об этом также свидетельствуют найденные впоследствии останки. У священника Александра Попова были сломаны позвоночник, рука и челюсть, отрезаны пальцы, на теле — следы глубоких штыковых ран, руки лежали скрещенными на груди. У старосты была снята кожа на голове и на пальцах рук, ноги перебиты, на спине выколота пятиконечная звезда. Одному из убитых сломали пальцы за то, что он писал иконы. Согласно рассказам современников, пытки длились в течении многих часов, несмотря на скорое отступление красных. Не меньшие издевательства чинили над взятыми в заложники. В одном из центров большевитской власти, в Камышлове обнаружили наспех зарытую братскую могилу с телами 20 крестьян, священника Василия Милицына и просворни Екатерины Боголюбовой, пригнанных в Камышлов карательными отрядами. Во время террора успели отметиться и те, кто участвовал в расстреле царской семьи в Екатеринбурге. Один из них — комиссар Петр Ермаков некоторое время занимал с отрядом Каслинский завод. После его ухода было обнаружено тело 80-летнего священника Александра Миропольского. Его узнали не по лицу, которое было разбито, голова развалена или топором, или кайлом, а по подряснику. В теле было две огнестрельных раны. Присутствовавшие при розысках при виде изуродованных пришли в ужас. Некоторые не верили, что человек может дойти до такого зверства и будет так убивать людей.
— У исследователей есть какое-то объяснение, почему репрессии сопровождались пытками и изощренными способами убийств?
— Такое зверство действительно сложно объяснить. Наверное, тут сошлись сразу несколько факторов. Во-первых, первое время серьезной организации и дисциплины в Красной армии не было. Ее основу составляли участники Первой мировой войны, многие из которых были дезертирами. Эти люди привыкли к крови, к убийству и вседозволенности. Во-вторых, сторонники большевиков были представлены также уголовниками-рецидивистами. Нередко они занимали командирские должности. Например, командир первого крестьянского коммунистического полка Петр Подпорин был в царское время осужден за мародерство. Итогом такого сочетания и стали зверства, которыми сопровождались казни.
— Расстрелы священнослужителей санкционировались сверху или террор проводился не системно?
— В июне-июле 1918 года уничтожение людей красногвардейцами проводилось без суда и следствия. Это было связано с отсутствием организованности и порядка в красных частях. Из свидетельских описаний или сохранившихся дел следовало, что подозреваемых приводили в штаб для короткого разбирательства, которое было по сути формальным, после чего их расстреливали. Либо расправу учиняли сразу на месте.
— Что могло послужить поводом для захвата в заложники или расстрелов?
— Малейшее подозрение или слухи могли вызвать подозрение. Например, в июне 1918 года в Верх-Теченском селе красноармейцы узнали о письме к белым, в котором их призывали придти и свергнуть советскую власть. Большевики сразу решили, что никто не мог написать этот призыв кроме священника. Его и расстреляли. Хотя, как пишет сын клирика, никто в селе это письма не читал, включая самого священника. Я затем читал воспоминания одного из красноармейцев именно про этот случай. Он рассказывает, что в селе было целое восстание: «кулаки разбежались, попа расстреляли». Но в тот период никакого восстания не было и непонятно, откуда он его взял. Достаточно часто во фронтовой полосе большевики расстреливали клириков и прихожан за колокольный звон. Красноармейцам казалось, что в церкви, таким образом, дают сигнал белым, чтобы они атаковали. А зачастую в храме в это время был обряд. Например, в селе Боровском Камышловского уезда священномученик Аркадий Гаряев проводил венчание и естественно полагался колокольный звон при выходе пары. В тот же день за удары в колокола его схватила группа красных мадьяр. Они заставили клирика копать себе могилу и здесь же его порубили шашками. «Религиозность не была единственной причиной».
— На ваш взгляд, почему именно священнослужители и прихожане становились одной из целей красного террора, ведь антирелигиозная пропаганда была развернута в стране лишь через несколько лет после Гражданской войны?
— Религиозные взгляды были одной из причин, по которой человек мог стать жертвой террора. Мы находили свидетельства, что перед расстрелом большевики заставляли клириков и прихожан отречься от веры. Но религиозность не была единственной причиной. Ведь священник был не только пастырем. В деревнях и селах он выполнял функции лидера гражданского общества. Как правило, клирики с амвона зачитывали указы и постановления власти. Они же организовывали гражданские собрания и движения. Особенно активно в гражданском обществе священники проявили себя после Февральской революции 1917 года, устраивая организации, которые были наделены властными полномочиями. В этой связи большевики и видели в священнослужителях представителей старой власти и соответственно контрреволюционеров. Также играла свою роль личная, бытовая неприязнь. Например, один из красноармейцев вспоминал, как у него сформировалась ненависть к священникам. Еще до революции он позвал клирика провести молебен на Пасху и дал ему пять копеек за службу, поскольку больше денег у него не было. По словам рассказчика, священник посмотрел на него как «на живодера» и с того времени у человека сложилось отрицательное отношение к пастырям. Я вижу, что вся эта совокупность факторов и привела к тому, что одной из целей террора стала конкретная религиозная группа людей.
— В годы Гражданской войны какой позиции придерживались священники?
— В основном они поддерживали Белую армию и во время антибольшевитских восстаний клирики вольно-невольно оказывались к ним причастны. Например, одно из таких восстаний произошло в поселке Невьянского завода и близлежащих населенных пунктах. Восстание переместилось и в Верхне-Тагильский завод. Всех большевиков в Вернем Тагиле арестовали и местный священник Иосиф Сиков предложил арестованным прилюдно покаяться за причастность к большевизму. Те сказали: «Мы покаемся, только отпустить нас домой умыться и переодеться в чистую одежду». Народ простой был, поверил и отпустил большевиков, а они вернулись с карательным отрядом. Священника отвезли в Невьянское ЧК и там расстреляли вместе с псаломщиком как организаторов восстания. Были противоположные случаи, что после восстаний священников не трогали, хотя и были расстрелы населения. Я полагаю из-за того, что клирики каким-то образом доказывали лояльность к советской власти. Исторические храмы Урала. Куровское Судьба священства после возвращения красных
— В целом сколько священнослужителей погибло за время красного террора на Урале?
— Всего к настоящему времени в РПЦ канонизировано 52 священномученика. Если прибавить к этому число безымянных и тех, кто не вошел в список святых, получится около 60 клириков.
— Для Свердловской области с учетом прежнего количества священников выглядит немного.
— Потому что репрессии не были повсеместны. Как я ранее говорил, красногвардейцы учиняли расправы на пути отступления — в основном это было вдоль железной дороги.
— Как уральские священники пережили официальное начало красного террора?
— К тому времени регион был занят Белой армией, поэтому местные клирики чувствовали себя в безопасности. Однако с отступлением белогвардейцев начался массовый отток священнослужителей с Урала. Дело в том, что белые достаточно активно использовали тему красного террора в своей агитации. Зачастую о зверствах большевиков рассказывалось с преувеличением, местами истории приукрашивались. Также при белых выкапывали тела расстрелянных священников для того, чтобы перезахоронить их в братской могиле. С христианской точки зрения это в принципе выглядело странным, но противники большевиков таким образом хотели наглядно показать последствия террора. Об эффективности этой агитации можно судить, что при отступлении белых с Урала в 1919 году вместе с ними Екатеринбург покинула треть жителей — интеллигенция, мещане, купечество, служащие. Например, из 200 врачей в городе остались 10, ушли все актеры местного театра, все предприниматели. Уходили вместе с остальными и священнослужители. Например, в Туринском уезде с белыми ушла половина священников, в Красноуфимском — более 70 %. В последнем случае массовый исход можно объяснить тем, что это единственный уезд, в котором антибольшевистское восстание не было подавлено до прихода белых. И священники опасались массовых расправ. Если же брать не только священников, а и дьяконов и псаломщиков, то в том же Красноуфимском уезде, приходы, в которых кто-то ушел с белыми составляли более 95 %. О последствиях этого ухода говорят, к примеру, метрические книги Каменского района. В селе Водолазовском Камышловского уезда 12 июля 1919 г. умерла девятимесячная дочь местного псаломщика Димитрия Филиппова. Запись в метрической книге, составленная на следующий день, сообщает: «По случаю ухода местного священника и иереев ближайших сел с армиями Адмирала Колчака надгробное пение младенческое и погребение исправлено псаломщиком».
Это значит, что в соседних деревнях не осталось ни одного священнослужителя кто бы мог отпеть ребенка, что бедный отец, мелкий служка церкви похоронил свою дочь без всякого отпевания.
— С возвращением Красной армии на Урал террор возобновился?
— Нет. Агрессия и насилие пошли на спад. Повсеместных расстрелов не было, в основном священников арестовывали с формулировкой «до окончания Гражданской войны». В последующем активные преследования клириков и верующих людей возобновятся только в конце 20-х и на протяжении 1930-х годов.
ЕАН благодарит за содействие в подготовке материала руководителя Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в XX веке Оксану Иванову. Беседовал Сергей Беляев.
http://mitropolia74.ru/obozren…-na-urale/
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.06 / 8
-
Суд над террором: партизан Яков Тряпицын и его подручные в материалах судебного заседания
Красный партизан Яков Тряпицын, спаливший дотла в мае 1920 г. большой дальневосточный город Николаевск-на-Амуре (стоящий на месте впадения Амура в Татарский пролив напротив о. Сахалин) и вырезавший не только множество жителей областного центра и всей Сахалинской области, но и всю японскую колонию, дав Японии повод для крупного вооружённого вмешательства в российские дела, держит безусловное первенство в жестокости среди всех красных партизан. Председатель Сахалинского народно-революционного комитета Г. З. Прокопенко писал в конце 1920 г. правительству ДВР, что «пол области разрушено и половина населения выбита [и партизанами] спущена под лед». В советской историографии Тряпицын часто именовался антисоветским бандитом, хотя террористическая политика тряпицынщины была следствием именно ультрарадикальных воззрений Тряпицына и его ближайшего окружения, учредивших в Николаевске красную коммуну. Как проницательно написал первый и самый компетентный исследователь тряпицынщины, пресловутая Николаевская коммуна «по дикому избиению тысяч ни в чём не повинных людей, включая грудных детей, по утончённейшим пыткам большевистских палачей, представляет собой апофеоз советского режима».
Террористическая деятельность Я. И. Тряпицына и его окружения, проводивших массовый красный террор против населения Приамурья в 1919—1920 гг., до сих пор вызывает полярные оценки в историографии. Распространена точка зрения, согласно которой Тряпицын героически сражался с белогвардейцами и японскими интервентами, став жертвой исторической клеветы. Масштабы его злодеяний отпугивали исследователей, и эта инерция существует до настоящего времени. С 1930-х гг. о Тряпицыне в СССР старались писать как можно меньше. В неопубликованной рукописи сводного анонимного труда о партизанах Сибири, Казахстана и Дальнего Востока, сохранившейся в фонде Сибирского истпарта, оказалась подшита начальственная записка от 28 ноября 1934 г.: «Стоит ли говорить о Тряпицыне. Он — тёмное пятно в партизанском движении. Николаевск на Амуре для нас был тяжёлым моментом». При этом в очерке о Тряпицыне террор партизан и сожжение Николаевска вообще не были упомянуты. В опубликованной в конце 1960-х гг. академической «Истории Сибири», трактовавшей и основные события на Дальнем Востоке, фамилия Тряпицына не фигурировала. В других трудах Тряпицын кратко упоминался как жестокий анархист, справедливо покаранный советскими властями за нарушения законности, суть которых не разъяснялась.
Современная академическая «История Дальнего Востока России» продолжает уверять, что японское правительство фальсифицировало всё содержание николаевских событий, а известный американский историк Дж. Стефан «преувеличил склонность. Тряпицына к террору». Полное уничтожение узников тюрьмы объясняется попыткой японских войск их освободить, в ответ на что Тряпицын закономерно «расстрелял всех арестованных, обезопасив себя с этой стороны». Утверждается, что среди тряпицынцев «бандиты составляли ничтожное меньшинство», и лишь вскользь упоминается, что во время эвакуации (якобы добровольной, а не насильственной) «не обошлось и без нарушения революционной законности». Сожжение Николаевска скорее одобрено — со ссылкой на то, что «подобные решения в огне Гражданской войны принимались не раз». Не верит в тряпицынский террор и современный левонастроенный историк А. В. Шубин.
Только в последнее время появились новые публикации и исследования, которые доказательно, на документальной основе, демонстрируют осуществление Тряпицыным обширной социальной чистки населения Сахалинской области, масштабы которой намного превзошли сталинские. Следует указать, что эпизоды красной резни к 1920 г. не были новостью для жителей Дальнего Востока, где партизанский бандитизм ярко проявлялся с самого начала появления повстанцев в захваченных городах. В марте 1918 г. свыше тысячи жителей Благовещенска стали жертвами красногвардейцев, захвативших город после мятежа атамана И. М. Гамова. Как сообщал в 1922 г. видный чекист И. П. Павлуновский, «масса рабочих с приисков хлынула в город, взяла его штурмом и устроила поголовную резню /буржуазии «вообще"/. Ходили отрядами из дома в дом и вырезали всех заподозренных в восстании и сочувствующих им. Между прочим, вырезали почти весь состав Благовещенского Городского Управления, особенно крошили спецов и служащих горных контор». Пресса весной 1919 г. сообщала о террористических акциях в Благовещенске при красных: «Зверства большевиков в городе достигли ужасных размеров. Из местного населения расстреляно свыше 1000 человек. Начаты раскопки могил. Большая часть учащейся молодежи после взятия города вступила в ряды нашей армии добровольцами».
В начале апреля 1920 г. бывший глава правительства Колчака П. В. Вологодский встретился в Шанхае с двумя бежавшими от красного террора во Владивостоке офицерами, которые рассказали, что там, несмотря на коалиционное социалистическое правительство А. С. Медведева, «фактически орудовали большевики», арестовывавшие и после почти обязательных мучений убивавшие белых: «..Во Владивостоке происходят систематические убийства офицеров-белогвардейцев. Их арестовывают и на пути к тюрьме расстреливают под предлогом прекращения попыток к побегу и т. п.». Известный дальневосточный эсер-максималист И. И. Жуковский-Жук писал: «В интересах исторической правдивости необходимо отметить, что к „тряпицынским“ методам, т. е. к методам активной безпощадно-революционной, не знающей компромиссов борьбы, прибегали почти все революционеры на Д.-Востоке, особенно в Благовещенске на Амуре. Расстрелы без суда, служащие главным обвинением против „тряпицынцев“, здесь были не в редкость. Отдельные представители Амурской власти, как например, начальник областной тюрьмы Матвеев и его помощник С. Димитриев (оба коммунисты) не один десяток лиц, подозреваемых и обвиняемых в контр-революции и в белогвардейщине, расстреляли под сурдинку без суда и следствия. Это было известно и Ревкому, об этом узнали и многие в городе, но никто против этого не протестовал, за исключением Благовещенской группы анархистов, настолько все „привыкли“ к подобного рода явлениям». Однако банде Тряпицына удалось осуществить красный террор в его наиболее беспощадном виде, когда почти все социально и национально чуждые элементы были физически истреблены — заодно с немалым числом и «социально-близких».
Анархист Яков Иванович Тряпицын, молодой и амбициозный партизанский вожак, происходил из петроградских рабочих, был отважным добровольцем мировой войны, доросшим до унтер-офицера. Оказавшись на Дальнем Востоке, он проявил себя способным организатором анархической уголовной вольницы в Ольгинском уезде и Сучанской долине Приморья. В конце 1919 г. Тряпицын был направлен Военно-революционным штабом партизанских отрядов и революционных организаций Хабаровского и Николаевского районов в низовья Амура для организации там повстанческого движения. Есть версия, что Тряпицын вышел с отрядом самовольно, недовольный пассивностью партизанского командования. С ним в качестве комиссара выехала Нина Лебедева-Кияшко, активная эсерка-максималистка из Благовещенска. Движение примерно двухтысячного войска Тряпицына и Лебедевой вниз по Амуру сопровождалось почти полным истреблением сельской интеллигенции (за революционную «пассивность») и всех, кто был похож на горожанина-«буржуя»; священников топили в прорубях, взятых в плен, включая добровольно перешедших к партизанам, расстреливали. Один из тряпицынских помощников Иван Лапта (Яков Рогозин) организовал бандитский отряд, который «производил налёты на деревни и стойбища, грабил и убивал людей», на Лимурских приисках уничтожал тех, кто не отдавал золото, разграбил Амгуньские золотые прииски и окрестные сёла. Отрядники Лапты, вместе с тряпицынцами Заварзиным, Биценко, Дылдиным, Оцевилли, Сасовым, убили сотни нижнеамурцев ещё до занятия областного центра.
В отряде Тряпицына насчитывалось около 200 китайцев и столько же корейцев, набранных с золотых приисков (последними командовал Илья Пак) и которым атаман выдал щедрый денежный аванс, пообещал золото с приисков и много русских женщин. Современник отмечал: «В партизанские отряды входили. исключительно китайские низы, социальные отбросы, грабители, убийцы, морфинисты, опиокурильщики и т. д.». Один из виднейших сибирских большевиков А. А. Ширямов честно написал, что и среди русских приисковых рабочих Амура имелся «значительный процент сильного уголовного элемента». Самостоятельная жизнь в безлюдной тайге превращала старателей в анархических личностей, в связи с чем амурскими партизанами «было проявлено немало излишней жестокости». Ширямов прямо отмечал, что «амурский таёжник мстит так же, как мстили наши [далёкие] предки». Партизанские вожди выдвигались из наиболее целеустремлённых и жестоких личностей, державших в подчинении анархических повстанцев за счёт предоставления им права на грабежи и убийства.
В начале 1920 г. началось активное обсуждение идеи дальневосточного «буфера» между Советской Россией и Японией. Оказавшись перед фактом крушения колчаковской власти, японцы согласились с приходом во Владивосток красных отрядов, что те и осуществили в последний день января 1920 г. Наличие в столице Приморья большого количества иностранных войск не позволило большевикам одержать полную победу, и они были вынуждены смириться с переходом власти к социалистической Земской управе. В это же время Тряпицын осадил и после артиллерийского обстрела в конце февраля захватил Николаевск-на-Амуре, где дислоцировались японский батальон (350 чел.) и примерно такой же по численности белый гарнизон. Путей к нему до ледохода не было, поэтому защитники почти 20-тысячного города могли полагаться только на собственные силы. Они были обмануты партизанами, обещавшими не производить каких-либо жестокостей. Однако, несмотря на присутствие японских войск, гарантировавших соблюдение соглашения от 28 февраля 1920 г., тряпицынцы немедленно начали оргию грабежей и жестоких убийств.
М. В. Сотников-Горемыка, один из переживших это страшное время горожан, вспоминал, как арестованных уже наутро, раздев до белья, спешно расстреливали у тюрьмы на глазах друг у друга: «..Трупы валились один на другой. Многие из выводимых мужчин падали в обморок, женщины же на убой шли очень храбро. ..В эти дни в милиции были убиты 72 человека. На другой день подъехало несколько саней, повезли трупы, уже совершённо голые, топить в нарочно выбитых прорубях. Топили и приговаривали: „Отправляем в Японию“». Из показаний николаевца С. И. Бурнашева следует, что партизаны, по соглашению с японскими военными, «..не должны были производить никаких арестов и вообще никому не мстить. В ночь с 8 на 9 марта они, выведя из тюрьмы, разстреляли 93 человека. 9 марта я сам видел трупы на берегу против Куенги. На другой день, 10 марта, японцами была выпущена летучка, что. против того, что красные „губят народ“, разстреливают, ими, японцами, будут приняты меры. Тем не менее аресты продолжались, всё увеличиваясь. 11-го марта вечером красные пригласили японское командование в заседание, где сообщили ему, что. японцы завтра утром до 12 часов должны сдать оружие. Ночью в этот же день часов около двух началась стрельба — выступили японцы».
Японцы быстро поняли, что имеют дело со зверски настроенной бандой, которая не признаёт никаких договорённостей. Скорее всего, А. Гутман прав, когда пишет, что Тряпицын хотел спровоцировать японцев этим ультиматумом на выступление, надеясь, что все партизаны Дальнего Востока точно так же выступят в ответ и разгромят интервентов. И когда толпа пьяных убийц и мародёров предъявила японцам ультиматум о сдаче оружия, командир гарнизона майор Исикава осознал, что именно последует за разоружением единственной силы, способной хоть как-то удерживать партизан. И нанёс 13 марта превентивный удар. Тряпицын при внезапной атаке получил два ранения, но смог организовать сопротивление, — и после яростной схватки японский гарнизон был задавлен численностью, а консул и вся обслуга погибли в подожжённом партизанами консульстве.
Уцелевший С. Строд рассказал о горах изуродованных трупов заключённых, истреблённых накануне и в момент выступления японцев: «Осмотрев эту кучу и не найдя брата, я перешёл к громадной второй, в которой было 350−400 человек. Среди трупов я увидел очень много знакомых. Узнал старика Квасова, инженера Комаровского, труп его был сухой, съёженный, измождённый, очевидно было, что его страшно истязали и били, нижняя челюсть и нос были свёрнуты на бок; двух братьев Немчиновых; бывшего танцора, потом служащего Государственного Банка Вишневского, у него руки были связаны назад и вся грудь исколота штыками; двух братьев Андржиевских, у одного из них — Михаила — голова была совершенно разбита., японский солдат стоял на четвереньках и язык висел на одной нитке. Судовладелец Назаров стоял стоймя на трупах с выколотыми глазами и с смеющимся лицом. Некоторые трупы были лишены половых органов, у многих женских трупов были видны штыковые раны в половые органы, одна женщина лежала с выкидышем на груди. Трупа брата я не увидел и в этой куче… Женские трупы многие были совершенно раздеты, так я видел трупы машинистки земства — Плужниковой, Кухтериной, Клавдии Мещериновой; часть была в одних рубашках, некоторые в кальсонах. При мне работавшие на льду китайцы закончили пробитие проруби и с гиканьем, хохотом, таща по льду за ноги, начали сваливать трупы к проруби и. шестами проталкивать под лёд. В третьей куче трупов, в 75−100, были, как мне потом говорили, трупы г-жи Э.С.Люри, инженера Кукушкина и ещё некоторых знакомых лиц». Другой очевидец писал:
«..К 11 марта 1920 года тюрьма, арестное помещение при милиции и военная гауптвахта были переполнены арестованными. Всего арестованных было в тюрьмах около 500 человек, в милиции около 80 и на гауптвахте человек 50. 12 и 13 марта все русские, заключённые в тюрьме, на гауптвахте и в милиции, были убиты партизанами. Таким образом, в эти дни погибло свыше 600 русских, по преимуществу, интеллигентов. Аресты, обыски, конфискация имущества, убийства граждан не прекращались ни на один день». Людей с нарочитой жестокостью рубили шашками и топорами, прикалывали штыками, забивали поленьями. Некоторые партизаны покидали окопы только с единственной целью «прикончить хоть одного буржуя».
Узнав затем о приближении императорских войск, готовых отомстить за гибель всей японской колонии (700 чел.), Тряпицын решил доведённым до предельных границ красным террором продемонстрировать свою революционную последовательность. Он, как, впрочем, и все красные власти, чётко разделял подконтрольное население на «своих» и «буржуев». Последние подлежали грабежу и избирательному уничтожению; активных недовольных убивали и изолировали, остальные обычно смирялись. Накануне крушения Николаевской коммуны Тряпицын и его команда максимально расширили контингент социально и национально чуждых людей, подлежавший ликвидации.
Архивы говорят о многочисленности искренних жалоб и партизан, и новорождённых советских властей в зажиточных сибирско-дальневосточных районах на буржуазность доставшегося им населения, слабо облагороженного пролетарской прослойкой. Состав городского населения Новониколаевска власти оценивали как мелкобуржуазный и спекулянтский. По оценке местного ревкома, половину населения г. Павлодара Семипалатинской губернии в 1920 г. составляло «контрреволюционное казачество», а треть — буржуазия. Секретарь Алтайского губкома РКП (б) Я. Р. Елькович весной 1921 г. отмечал, что «большая часть населения губернии представляет из себя кулаческое крестьянство». Сотрудники Госполитохраны ДВР в марте 1921 г. характеризовали забайкальский Нерчинск как «центр контрреволюции и спекуляции».
Как заявлял тряпицынец Д. С. Бузин (Бич), типичными представителями населения Николаевска-на-Амуре были «рыбопромышленники, золотопромышленники, пароходовладельцы, торговцы-спекулянты, мещане-чиновники и т. д. Рабочих здесь почти нет, если не считать одного или двух десятков грузчиков и столько же бондарей. ..Напрасно мы стали бы искать здесь людей, преданных революции и сторонников Советской власти». Но коренной житель города писал о рабочей прослойке иное: в 1919 г. бурно развивавшаяся рыбная промышленность привлекала в город «новых предпринимателей и массы рабочих». Однако последние отрицательно воспринимали агитацию большевиков о вступлении в партизаны, поскольку получали хорошее жалованье и боялись японцев.
Для Тряпицына враждебный богатый город с большой иностранной колонией стал безответным полигоном для насаждения нового строя, физически избавленного партизанами от присутствия как собственно «гадов», так и их семей. Этот вожак, будучи развитым и эрудированным пролетарием, в своём подходе к социальной чистке был апологетом безбрежного террора и опирался на уголовный элемент, который в изобилии присутствовал в партизанских отрядах востока России. Личная и тайная контрразведка Тряпицына имела наблюдение за всем, включая следственную комиссию, что было типично для поведения вождей крупных партизанских отрядов. Например, согласно показаниям А. А. Табанакова, бывшего начальника контрразведки действовавшей осенью 1919 г. в Горном Алтае дивизии И. Я. Третьяка, этот большевистский комиссар после падения советов скрывался в горах и вместе с сообщниками до сентября 1919 г. занимался «грабежами местного населения», а потом примкнул к партизанщине, получив в дивизии Третьяка очень ответственный чекистский пост, демонстрировавший близость его обладателя к руководству. Аналогичные персонажи отправляли функции тайной полиции и у Тряпицына. Партизанский террор, опиравшийся как на доморощенных чекистов, так и ярость активных партизан, носил все те черты, которые привносили в него большевики и анархисты: массовость, беспощадность, уничтожение людей не только по социальному, но и по национальному признаку, а также террор в отношении «своих».
...
Красный партизан Яков Тряпицын, спаливший дотла в мае 1920 г. большой дальневосточный город Николаевск-на-Амуре (стоящий на месте впадения Амура в Татарский пролив напротив о. Сахалин) и вырезавший не только множество жителей областного центра и всей Сахалинской области, но и всю японскую колонию, дав Японии повод для крупного вооружённого вмешательства в российские дела, держит безусловное первенство в жестокости среди всех красных партизан. Председатель Сахалинского народно-революционного комитета Г. З. Прокопенко писал в конце 1920 г. правительству ДВР, что «пол области разрушено и половина населения выбита [и партизанами] спущена под лед». В советской историографии Тряпицын часто именовался антисоветским бандитом, хотя террористическая политика тряпицынщины была следствием именно ультрарадикальных воззрений Тряпицына и его ближайшего окружения, учредивших в Николаевске красную коммуну. Как проницательно написал первый и самый компетентный исследователь тряпицынщины, пресловутая Николаевская коммуна «по дикому избиению тысяч ни в чём не повинных людей, включая грудных детей, по утончённейшим пыткам большевистских палачей, представляет собой апофеоз советского режима».
Террористическая деятельность Я. И. Тряпицына и его окружения, проводивших массовый красный террор против населения Приамурья в 1919—1920 гг., до сих пор вызывает полярные оценки в историографии. Распространена точка зрения, согласно которой Тряпицын героически сражался с белогвардейцами и японскими интервентами, став жертвой исторической клеветы. Масштабы его злодеяний отпугивали исследователей, и эта инерция существует до настоящего времени. С 1930-х гг. о Тряпицыне в СССР старались писать как можно меньше. В неопубликованной рукописи сводного анонимного труда о партизанах Сибири, Казахстана и Дальнего Востока, сохранившейся в фонде Сибирского истпарта, оказалась подшита начальственная записка от 28 ноября 1934 г.: «Стоит ли говорить о Тряпицыне. Он — тёмное пятно в партизанском движении. Николаевск на Амуре для нас был тяжёлым моментом». При этом в очерке о Тряпицыне террор партизан и сожжение Николаевска вообще не были упомянуты. В опубликованной в конце 1960-х гг. академической «Истории Сибири», трактовавшей и основные события на Дальнем Востоке, фамилия Тряпицына не фигурировала. В других трудах Тряпицын кратко упоминался как жестокий анархист, справедливо покаранный советскими властями за нарушения законности, суть которых не разъяснялась.
Современная академическая «История Дальнего Востока России» продолжает уверять, что японское правительство фальсифицировало всё содержание николаевских событий, а известный американский историк Дж. Стефан «преувеличил склонность. Тряпицына к террору». Полное уничтожение узников тюрьмы объясняется попыткой японских войск их освободить, в ответ на что Тряпицын закономерно «расстрелял всех арестованных, обезопасив себя с этой стороны». Утверждается, что среди тряпицынцев «бандиты составляли ничтожное меньшинство», и лишь вскользь упоминается, что во время эвакуации (якобы добровольной, а не насильственной) «не обошлось и без нарушения революционной законности». Сожжение Николаевска скорее одобрено — со ссылкой на то, что «подобные решения в огне Гражданской войны принимались не раз». Не верит в тряпицынский террор и современный левонастроенный историк А. В. Шубин.
Только в последнее время появились новые публикации и исследования, которые доказательно, на документальной основе, демонстрируют осуществление Тряпицыным обширной социальной чистки населения Сахалинской области, масштабы которой намного превзошли сталинские. Следует указать, что эпизоды красной резни к 1920 г. не были новостью для жителей Дальнего Востока, где партизанский бандитизм ярко проявлялся с самого начала появления повстанцев в захваченных городах. В марте 1918 г. свыше тысячи жителей Благовещенска стали жертвами красногвардейцев, захвативших город после мятежа атамана И. М. Гамова. Как сообщал в 1922 г. видный чекист И. П. Павлуновский, «масса рабочих с приисков хлынула в город, взяла его штурмом и устроила поголовную резню /буржуазии «вообще"/. Ходили отрядами из дома в дом и вырезали всех заподозренных в восстании и сочувствующих им. Между прочим, вырезали почти весь состав Благовещенского Городского Управления, особенно крошили спецов и служащих горных контор». Пресса весной 1919 г. сообщала о террористических акциях в Благовещенске при красных: «Зверства большевиков в городе достигли ужасных размеров. Из местного населения расстреляно свыше 1000 человек. Начаты раскопки могил. Большая часть учащейся молодежи после взятия города вступила в ряды нашей армии добровольцами».
В начале апреля 1920 г. бывший глава правительства Колчака П. В. Вологодский встретился в Шанхае с двумя бежавшими от красного террора во Владивостоке офицерами, которые рассказали, что там, несмотря на коалиционное социалистическое правительство А. С. Медведева, «фактически орудовали большевики», арестовывавшие и после почти обязательных мучений убивавшие белых: «..Во Владивостоке происходят систематические убийства офицеров-белогвардейцев. Их арестовывают и на пути к тюрьме расстреливают под предлогом прекращения попыток к побегу и т. п.». Известный дальневосточный эсер-максималист И. И. Жуковский-Жук писал: «В интересах исторической правдивости необходимо отметить, что к „тряпицынским“ методам, т. е. к методам активной безпощадно-революционной, не знающей компромиссов борьбы, прибегали почти все революционеры на Д.-Востоке, особенно в Благовещенске на Амуре. Расстрелы без суда, служащие главным обвинением против „тряпицынцев“, здесь были не в редкость. Отдельные представители Амурской власти, как например, начальник областной тюрьмы Матвеев и его помощник С. Димитриев (оба коммунисты) не один десяток лиц, подозреваемых и обвиняемых в контр-революции и в белогвардейщине, расстреляли под сурдинку без суда и следствия. Это было известно и Ревкому, об этом узнали и многие в городе, но никто против этого не протестовал, за исключением Благовещенской группы анархистов, настолько все „привыкли“ к подобного рода явлениям». Однако банде Тряпицына удалось осуществить красный террор в его наиболее беспощадном виде, когда почти все социально и национально чуждые элементы были физически истреблены — заодно с немалым числом и «социально-близких».
Анархист Яков Иванович Тряпицын, молодой и амбициозный партизанский вожак, происходил из петроградских рабочих, был отважным добровольцем мировой войны, доросшим до унтер-офицера. Оказавшись на Дальнем Востоке, он проявил себя способным организатором анархической уголовной вольницы в Ольгинском уезде и Сучанской долине Приморья. В конце 1919 г. Тряпицын был направлен Военно-революционным штабом партизанских отрядов и революционных организаций Хабаровского и Николаевского районов в низовья Амура для организации там повстанческого движения. Есть версия, что Тряпицын вышел с отрядом самовольно, недовольный пассивностью партизанского командования. С ним в качестве комиссара выехала Нина Лебедева-Кияшко, активная эсерка-максималистка из Благовещенска. Движение примерно двухтысячного войска Тряпицына и Лебедевой вниз по Амуру сопровождалось почти полным истреблением сельской интеллигенции (за революционную «пассивность») и всех, кто был похож на горожанина-«буржуя»; священников топили в прорубях, взятых в плен, включая добровольно перешедших к партизанам, расстреливали. Один из тряпицынских помощников Иван Лапта (Яков Рогозин) организовал бандитский отряд, который «производил налёты на деревни и стойбища, грабил и убивал людей», на Лимурских приисках уничтожал тех, кто не отдавал золото, разграбил Амгуньские золотые прииски и окрестные сёла. Отрядники Лапты, вместе с тряпицынцами Заварзиным, Биценко, Дылдиным, Оцевилли, Сасовым, убили сотни нижнеамурцев ещё до занятия областного центра.
В отряде Тряпицына насчитывалось около 200 китайцев и столько же корейцев, набранных с золотых приисков (последними командовал Илья Пак) и которым атаман выдал щедрый денежный аванс, пообещал золото с приисков и много русских женщин. Современник отмечал: «В партизанские отряды входили. исключительно китайские низы, социальные отбросы, грабители, убийцы, морфинисты, опиокурильщики и т. д.». Один из виднейших сибирских большевиков А. А. Ширямов честно написал, что и среди русских приисковых рабочих Амура имелся «значительный процент сильного уголовного элемента». Самостоятельная жизнь в безлюдной тайге превращала старателей в анархических личностей, в связи с чем амурскими партизанами «было проявлено немало излишней жестокости». Ширямов прямо отмечал, что «амурский таёжник мстит так же, как мстили наши [далёкие] предки». Партизанские вожди выдвигались из наиболее целеустремлённых и жестоких личностей, державших в подчинении анархических повстанцев за счёт предоставления им права на грабежи и убийства.
В начале 1920 г. началось активное обсуждение идеи дальневосточного «буфера» между Советской Россией и Японией. Оказавшись перед фактом крушения колчаковской власти, японцы согласились с приходом во Владивосток красных отрядов, что те и осуществили в последний день января 1920 г. Наличие в столице Приморья большого количества иностранных войск не позволило большевикам одержать полную победу, и они были вынуждены смириться с переходом власти к социалистической Земской управе. В это же время Тряпицын осадил и после артиллерийского обстрела в конце февраля захватил Николаевск-на-Амуре, где дислоцировались японский батальон (350 чел.) и примерно такой же по численности белый гарнизон. Путей к нему до ледохода не было, поэтому защитники почти 20-тысячного города могли полагаться только на собственные силы. Они были обмануты партизанами, обещавшими не производить каких-либо жестокостей. Однако, несмотря на присутствие японских войск, гарантировавших соблюдение соглашения от 28 февраля 1920 г., тряпицынцы немедленно начали оргию грабежей и жестоких убийств.
М. В. Сотников-Горемыка, один из переживших это страшное время горожан, вспоминал, как арестованных уже наутро, раздев до белья, спешно расстреливали у тюрьмы на глазах друг у друга: «..Трупы валились один на другой. Многие из выводимых мужчин падали в обморок, женщины же на убой шли очень храбро. ..В эти дни в милиции были убиты 72 человека. На другой день подъехало несколько саней, повезли трупы, уже совершённо голые, топить в нарочно выбитых прорубях. Топили и приговаривали: „Отправляем в Японию“». Из показаний николаевца С. И. Бурнашева следует, что партизаны, по соглашению с японскими военными, «..не должны были производить никаких арестов и вообще никому не мстить. В ночь с 8 на 9 марта они, выведя из тюрьмы, разстреляли 93 человека. 9 марта я сам видел трупы на берегу против Куенги. На другой день, 10 марта, японцами была выпущена летучка, что. против того, что красные „губят народ“, разстреливают, ими, японцами, будут приняты меры. Тем не менее аресты продолжались, всё увеличиваясь. 11-го марта вечером красные пригласили японское командование в заседание, где сообщили ему, что. японцы завтра утром до 12 часов должны сдать оружие. Ночью в этот же день часов около двух началась стрельба — выступили японцы».
Японцы быстро поняли, что имеют дело со зверски настроенной бандой, которая не признаёт никаких договорённостей. Скорее всего, А. Гутман прав, когда пишет, что Тряпицын хотел спровоцировать японцев этим ультиматумом на выступление, надеясь, что все партизаны Дальнего Востока точно так же выступят в ответ и разгромят интервентов. И когда толпа пьяных убийц и мародёров предъявила японцам ультиматум о сдаче оружия, командир гарнизона майор Исикава осознал, что именно последует за разоружением единственной силы, способной хоть как-то удерживать партизан. И нанёс 13 марта превентивный удар. Тряпицын при внезапной атаке получил два ранения, но смог организовать сопротивление, — и после яростной схватки японский гарнизон был задавлен численностью, а консул и вся обслуга погибли в подожжённом партизанами консульстве.
Уцелевший С. Строд рассказал о горах изуродованных трупов заключённых, истреблённых накануне и в момент выступления японцев: «Осмотрев эту кучу и не найдя брата, я перешёл к громадной второй, в которой было 350−400 человек. Среди трупов я увидел очень много знакомых. Узнал старика Квасова, инженера Комаровского, труп его был сухой, съёженный, измождённый, очевидно было, что его страшно истязали и били, нижняя челюсть и нос были свёрнуты на бок; двух братьев Немчиновых; бывшего танцора, потом служащего Государственного Банка Вишневского, у него руки были связаны назад и вся грудь исколота штыками; двух братьев Андржиевских, у одного из них — Михаила — голова была совершенно разбита., японский солдат стоял на четвереньках и язык висел на одной нитке. Судовладелец Назаров стоял стоймя на трупах с выколотыми глазами и с смеющимся лицом. Некоторые трупы были лишены половых органов, у многих женских трупов были видны штыковые раны в половые органы, одна женщина лежала с выкидышем на груди. Трупа брата я не увидел и в этой куче… Женские трупы многие были совершенно раздеты, так я видел трупы машинистки земства — Плужниковой, Кухтериной, Клавдии Мещериновой; часть была в одних рубашках, некоторые в кальсонах. При мне работавшие на льду китайцы закончили пробитие проруби и с гиканьем, хохотом, таща по льду за ноги, начали сваливать трупы к проруби и. шестами проталкивать под лёд. В третьей куче трупов, в 75−100, были, как мне потом говорили, трупы г-жи Э.С.Люри, инженера Кукушкина и ещё некоторых знакомых лиц». Другой очевидец писал:
«..К 11 марта 1920 года тюрьма, арестное помещение при милиции и военная гауптвахта были переполнены арестованными. Всего арестованных было в тюрьмах около 500 человек, в милиции около 80 и на гауптвахте человек 50. 12 и 13 марта все русские, заключённые в тюрьме, на гауптвахте и в милиции, были убиты партизанами. Таким образом, в эти дни погибло свыше 600 русских, по преимуществу, интеллигентов. Аресты, обыски, конфискация имущества, убийства граждан не прекращались ни на один день». Людей с нарочитой жестокостью рубили шашками и топорами, прикалывали штыками, забивали поленьями. Некоторые партизаны покидали окопы только с единственной целью «прикончить хоть одного буржуя».
Узнав затем о приближении императорских войск, готовых отомстить за гибель всей японской колонии (700 чел.), Тряпицын решил доведённым до предельных границ красным террором продемонстрировать свою революционную последовательность. Он, как, впрочем, и все красные власти, чётко разделял подконтрольное население на «своих» и «буржуев». Последние подлежали грабежу и избирательному уничтожению; активных недовольных убивали и изолировали, остальные обычно смирялись. Накануне крушения Николаевской коммуны Тряпицын и его команда максимально расширили контингент социально и национально чуждых людей, подлежавший ликвидации.
Архивы говорят о многочисленности искренних жалоб и партизан, и новорождённых советских властей в зажиточных сибирско-дальневосточных районах на буржуазность доставшегося им населения, слабо облагороженного пролетарской прослойкой. Состав городского населения Новониколаевска власти оценивали как мелкобуржуазный и спекулянтский. По оценке местного ревкома, половину населения г. Павлодара Семипалатинской губернии в 1920 г. составляло «контрреволюционное казачество», а треть — буржуазия. Секретарь Алтайского губкома РКП (б) Я. Р. Елькович весной 1921 г. отмечал, что «большая часть населения губернии представляет из себя кулаческое крестьянство». Сотрудники Госполитохраны ДВР в марте 1921 г. характеризовали забайкальский Нерчинск как «центр контрреволюции и спекуляции».
Как заявлял тряпицынец Д. С. Бузин (Бич), типичными представителями населения Николаевска-на-Амуре были «рыбопромышленники, золотопромышленники, пароходовладельцы, торговцы-спекулянты, мещане-чиновники и т. д. Рабочих здесь почти нет, если не считать одного или двух десятков грузчиков и столько же бондарей. ..Напрасно мы стали бы искать здесь людей, преданных революции и сторонников Советской власти». Но коренной житель города писал о рабочей прослойке иное: в 1919 г. бурно развивавшаяся рыбная промышленность привлекала в город «новых предпринимателей и массы рабочих». Однако последние отрицательно воспринимали агитацию большевиков о вступлении в партизаны, поскольку получали хорошее жалованье и боялись японцев.
Для Тряпицына враждебный богатый город с большой иностранной колонией стал безответным полигоном для насаждения нового строя, физически избавленного партизанами от присутствия как собственно «гадов», так и их семей. Этот вожак, будучи развитым и эрудированным пролетарием, в своём подходе к социальной чистке был апологетом безбрежного террора и опирался на уголовный элемент, который в изобилии присутствовал в партизанских отрядах востока России. Личная и тайная контрразведка Тряпицына имела наблюдение за всем, включая следственную комиссию, что было типично для поведения вождей крупных партизанских отрядов. Например, согласно показаниям А. А. Табанакова, бывшего начальника контрразведки действовавшей осенью 1919 г. в Горном Алтае дивизии И. Я. Третьяка, этот большевистский комиссар после падения советов скрывался в горах и вместе с сообщниками до сентября 1919 г. занимался «грабежами местного населения», а потом примкнул к партизанщине, получив в дивизии Третьяка очень ответственный чекистский пост, демонстрировавший близость его обладателя к руководству. Аналогичные персонажи отправляли функции тайной полиции и у Тряпицына. Партизанский террор, опиравшийся как на доморощенных чекистов, так и ярость активных партизан, носил все те черты, которые привносили в него большевики и анархисты: массовость, беспощадность, уничтожение людей не только по социальному, но и по национальному признаку, а также террор в отношении «своих».
...
Отредактировано: Гималаев Илья - 24 сен 2018 в 08:43
- -0.11 / 8
-
Цитата: Гималаев Илья от 24.09.2018 08:30:54Суд над террором: партизан Яков Тряпицын и его подручные в материалах судебного заседанияВ захваченном городе в течение трёх месяцев существовала так называемая Николаевская коммуна со всеми положенными атрибутами: реквизициями, конфискациями, обобществлением орудий лова, запретом торговли и введением карточек, чрезвычайной комиссией. Анархист Тряпицын и эсерка-максималистка Лебедева, попутно арестовав и уничтожив «своих» коммунистов по подозрению в заговоре, проводили — причём в крайнем варианте — политику военного коммунизма, будучи официально признаны Москвой. Ближайшее окружение Тряпицына составляли лица с уголовным прошлым — Биценко, Будрин, Лапта, Оцевилли-Павлуцкий, Сасов. Основав террористическое государство-коммуну, тряпицынцы под натиском японских войск сами же его и уничтожили. При этом банда Тряпицына пошла по пути социальной чистки предельно далеко, постановив предпринять полное уничтожение даже семей тех, кто был «буржуем», евреем или просто «не своим». Глубокая «чистка» была запланирована, тщательно подготовлена и проведена без малейших колебаний. Объективность данных подробной книги опытного журналиста и издателя А. Я. Гутмана «Гибель Николаевска на Амуре», опиравшегося на десятки показаний переживших «инцидент», включая юристов, прежде всего, судебного чиновника К. А. Емельянова, подтверждается и многими советскими документами.
...
Уяснив, что провоцировать Японию на войну власти Советской России и ДВР не собираются, и помощи осаждённому японцами (в ответ на ошеломившую империю резню гарнизона и всей колонии) городу не предвидится, диктатор Тряпицын решил громко хлопнуть дверью. Возможно, он вдохновлялся мятежом левых эсеров в 1918 г. и рассчитывал, что окажется удачливей в развязывании революционной войны, что неизбежно взорвало бы идею создания буферной Дальневосточной республики. Но вооружённое выступление мстивших за тряпицынские зверства японцев 4−5 апреля 1920 г. нанесло такой жестокий удар красным силам, что ни о каком серьёзном ответе сразу разбежавшихся партизан и армии ДВР нечего было и думать.
Полное уничтожение областного центра было невиданным делом даже для большевиков, хотя власти соседних регионов тайком готовили главные города к уничтожению при отступлении. Летом 1920 г., подготовляя, в ожидании наступления японцев, эвакуацию Благовещенска, Амурский ревком «спешно вывез в безопасное место все ценности и организовал конспиративную тройку в составе коммунистов Бушуева и Ниландера и максималиста С. Бобринева, которым было поручено спешно разработать план эвакуации и наметить те укреплённые каменные здания, которые Ревком предполагал взорвать в случае оставления города, чтобы их не использовали японцы! — Кто не с нами, тот против нас! таково было общее настроение революционных кругов г. Благовещенска. Никто не жалел города, который обрекался на уничтожение, т. к. решено было, что всё трудовое красное население уйдёт в тайгу с партизанами, а остаться может только контр-революционный элемент, которому пусть не останется камня на камне..» Благовещенск уцелел, но вот при паническом отступлении из Хабаровска 22 декабря 1921 г. большевики, как отмечали белые, сожгли железнодорожную станцию, «взорвали церковь[,] больницу [и] много казенных и частных домов[,] вагонов [со] снарядами и прочим имуществом». Член Дальбюро ЦК РКП (б) В. А. Масленников писал про «ненужное разрушение» при отступлении пароходов Доброфлота и станции: «Ряд разрушений ценностей, произведённых на ст. Хабаровск тоже, конечно, оставил весьма удручающее впечатление на настроение обывателя». Здесь же Масленников отметил, что «нужно было себе представить возмущение населения», узнавшего про «ненужный расстрел 22-х арестованных ГПО при уходе из города».
Со слов К. А. Емельянова, который работал при Тряпицыне канцеляристом в штабе и хорошо знал документы «коммуны», после получения известий о приближении японских войск на заседании ревштаба и чрезвычайной комиссии по предложению Тряпицына и Лебедевой «.. было решено город сжечь до основания, часть жителей эвакуировать, а часть уничтожить. ЧК получила чрезвычайные полномочия производить не только массовые аресты, но и казни. Председателем чрезвычайки был назначен крестьянин деревни Демидовки Михаил Морозов, который получил бесконтрольное право распоряжаться жизнью николаевских обывателей. В том же тайном заседании составили проскрипционные списки, материалом для которых послужили заранее затребованные сведения от всех комиссариатов. Порядок массового убийства был установлен следующий: в первую очередь шли евреи и их семьи, во вторую очередь жёны и дети офицеров и военнослужащих, третьими обозначены были все семейства лиц ранее арестованных и убитых по приговорам трибуналов или распоряжениям Тряпицына, в четвёртых шли лица, по каким либо причинам оправданные трибуналом и выпущенные на свободу, равно как и их семьи. В пятую очередь предназначались чиновники, торговые служащие, ремесленники и некоторые группы рабочих, не сочувствовавших политике красного штаба. По составленным спискам подлежало уничтожению около трёх с половиной тысяч человек. Почти месяц, приблизительно до мая, продолжалась усиленная работа по намеченному плану. Внесённых в списки систематически убивали небольшими партиями в заранее установленном порядке. Казни производились специально выделенными отрядами из преданных Тряпицыну русских партизан, корейцев и китайцев. Каждую ночь они отправлялись в тюрьму и по списку убивали определённое количество жертв (30−40 человек). К тому времени в николаевских местах заключения находилось около 1500 человек».
Тряпицын открыто говорил, что три четверти населения города состоит из контрреволюционеров и притаившихся «гадов». Тряпицын и Лебедева, крича на заседаниях созданного облисполкомом 13 мая полномочного военно-революционного штаба: «Террор! Террор без жалости.!», подписывали весьма красноречивые документы с предписаниями начальникам комиссариатов и учреждений спешно ликвидировать врагов. Например: «Мандат Пахомову. Срочно предписывается вам составить список лиц, подлежащих уничтожению. Революционная совесть ваша». Или приказ от 24 мая командиру 1-го полка: «Военно-революционный штаб предписывает вам привести в исполнение смертный приговор над арестованными японцами, находящимися в лазарете, а также над осуждёнными лицами, находящимися в тюрьме». Пик террора пришёлся на конец мая.
В тряпицынском терроре был не только социальный, но и национальный оттенок: русские партизаны особенно охотно убивали евреев, китайские и корейские — японцев. Позднее в «чистке» выявилась другая чудовищная сторона — преимущественное истребление детей и женщин, как перед эвакуацией, так и после. Детей уничтожали вместе с матерями, женщин перед казнью насиловали. Партизаны специально уничтожали детей как лишнюю обузу, считая их «неисправимо вредными». Сначала перебили почти всех японских детей, причём самых маленьких бросили живыми в выкопанную в снегу яму; затем «членов еврейского общества… на пароходе отвозили на Амур и топили больших и маленьких».
С 28 мая партизаны начали выжигать окрестности, уничтожая рыбачьи посёлки напротив Николаевска-на-Амуре, а 29 мая — сжигать жилые дома и взрывать крупные каменные постройки областного центра. Всего было уничтожено 1 130 жилых построек — почти 97% всего жилфонда. Из общественных зданий сохранились лишь тюрьма и торговое училище. Тряпицын официально объявил сельским ревкомам: «Город весь сожжён. крупные здания взорваны, японцам остался один пепел. Не осталось от Николаевска камня на камне». Гружённые награбленным добром, включая полтонны золота и множество конфискованных драгоценностей, партизаны покинули пепелище. Тряпицынцы бежали вверх по р. Амгунь к приисковому посёлку Керби, поджигая на пути селения, прииски и драги, убивая всех подряд.
Уместно отметить, что в сожжении Николаевска-на-Амуре до сих пор, по следам советской пропаганды, обвиняют японских интервентов. Уверения иных краеведов, что японцы-оккупанты «на руинах старого Николаевска не построили ничего», опровергаются документами. В середине ноября 1921 г. чекисты ДВР информировали, что «японцы начинают производить в городе Николаевске постройки, крупный коммерсант СИМАДО строит православную церковь». Из разведсводки штаба НРА ДВР от 3 августа 1922 г., адресованной ГПУ РСФСР, следует, что 15 июля штаб японского полка, расквартированного в Николаевске-на-Амуре, получил из штаба дивизии приказание готовиться к эвакуации, в связи с чем «постройка домов [в] Николаевске японцами прекращена».
Красный террор не прекратился и с уничтожением Николаевска. Жуткие сцены разыгрывались во время многодневного пешего перехода по тайге девяти тысяч насильно эвакуированных горожан, когда партизаны, по воспоминаниям Г. Г. Милованова, «ехали верхом на людях», а ослабевших женщин и детей тут же приканчивали. Другой очевидец вспоминал: «В Керби творились страшные злодеяния. Ночью приходили вооружённые люди и говорили, что нужно эвакуироваться. Людей поднимали и уводили из села. Никто не возвращался. Без ружейной стрельбы всех до одного рубили шашками. По реке всплывали трупы». По Амгуни плыло множество трупов: «Плыли женщины, дети и редко мужчины — с обрезанными ушами, носами, отрубленными пальцами, с резаными, колотыми штыковыми ранами. Хоронить их было запрещено». Отметим, что уничтожение семей тех, кто уже был затронут террором, практиковалось на Дону в период «расказачивания» 1919 г. и было широко повторено чуть позднее — во время террора чекистов 1920—1921 гг. в захваченном Крыму. Таким образом, Тряпицын является одним из идеологов и практиков массовых чисток гражданского населения, включая сознательное уничтожение детей. Его сепаратизм, терроризм и ультрареволюционный авантюризм привели к ликвидации тряпицынской диктатуры руками партизан по инициативе большевиков и их спецслужб.
По наиболее распространённой версии, появившейся в момент событий, сознательные партизаны, устав от террора, который бил по самим отрядовцам, составили заговор против диктатора. Как утверждал на партийной чистке в 1925 г. бывший тряпицынец А. А. Зинкевич, дослужившийся до помощника начальника штаба 56-го погранотряда Амурского губернского отдела ОГПУ, партизаны «расстреливались направо и налево», а руководитель Николаевского ревкома в конце 1920 г. отмечал, что «когда поплыли по Амуру и Амгуни [убитые] жёны, дети партизан, их отцы, матери, народ восстал и сверг Тряпицына». Внезапным налётом группы партизан во главе с начальником областной милиции И. Т. Андреевым в ночь на 4 июля сонный Тряпицын вместе с 450 соратниками были схвачены без сопротивления. Несколько дней спустя признанные наиболее опасными головорезы были быстро осуждены наспех собранным судом из партизан и местных жителей в составе 103 членов.
Но есть основательные сведения о том, что устранение атамана было проведено хабаровскими властями с помощью верных партийцев и чекистов, — для устранения анархического источника военных провокаций с Японией, враждебного уже созданной ДВР и коммунистам. Один из историков пишет: «Ещё в мае 1920 года революционный штаб в Хабаровске принял решение покончить с Тряпицыным и его штабом. Для этого был подготовлен отряд из 10 человек, который получил предписание арестовать самого Тряпицына и его одиозных помощников, судить их „народным судом“ и казнить, как „изменников советской власти“. В конце июня хабаровские посланники пробрались на Амгунь. и вошли в связь с группой партизан, возглавляемых Андреевым, которые стояли в оппозиции к Тряпицыну». Имевший доступ к архивам ФСБ А. А. Петрушин сообщает, что властям, узнавшим о произволе Тряпицына, «пришлось отправить в Приамурье „укротителя сибирских партизан“.. Александра Лепёхина… Чекистский спецназ Лепёхина тайно захватил штаб партизана Тряпицына и ликвидировал его вместе с любовницей Лебедевой-Кияшко, зверствовавшей не меньше своего друга». В пользу версии о вмешательстве Хабаровска говорит и то, что сразу после расстрела тряпицынского штаба хабаровские большевики выразили полное одобрение этой акции.
После ареста Тряпицына началось спешное документирование его зверств. Как сообщал М. В. Сотников-Горемыка, И. Т. Андреев «..назначил комиссию для осмотра укупоренных ящиков, обнаружили деньги в бумагах, золоте, серебре, золотых серьгах, оторванных вместе с мочками ушей. Составлялись протоколы на выловленные трупы из озер и рек. У женщин были отрезаны груди, у мужчин — раздроблены ядра. У всех выловленных трупов были голые [оскальпированные] черепа»[53]. Материалы скорого следствия довольно скупы на подробности, но всё же выразительны циничной уверенностью 23-летнего Тряпицына в абсолютной правоте своих действий. Показания его и остальных подсудимых не противоречат рассказам уцелевших, но следует учесть, что судьи обвиняли Тряпицына в основном за убийства своих, расстрелы коммунистов и мирных японцев, и лишь в последнюю очередь вспоминали о судьбах уничтоженных «буржуев». Обвиняемые изворачивались и старались как можно сильнее приуменьшить свою вину, но в ответах на вопросы предварительного следствия порой бывали достаточно откровенны. Семеро основных обвиняемых 9 июля были осуждены к смертной казни и сразу расстреляны.
Чуть позднее, 13 июля, были осуждены остальные активные тряпицынцы. Всего к суду привлекли 133 чел., из них 23 расстреляли, 33 — осудили к тюремному заключению, 50 — освободили, а 27 дел так и не было рассмотрено. Оказались расстреляны чекист М. Г. Морозов, адъютант Биценко А.Л. Фаинберг, соратники Биценко по бандитизму И. Г. Живный, В. Н. Буря, В. Лобастов, командиры полков и работники властных структур Б. В. Амуров-Козодаев, Л. В. Граков, Ф. В. Козодаев, М. С. Подоприговоров, Ф.И. Горелов, А. С. Козицин, А. И. Иванов, А. И. Волков-Соколов, И. Д. Куликов-Фёдоров, Г. Н. Константинов, К. И. Молодцов. Осуждённые к заключению остальные насильники и убийцы охранялись не слишком тщательно и смогли вскоре благополучно бежать в действовавшие по соседству партизанские отряды.
Часть бандитов Тряпицына, тем не менее, сохранилась во властных структурах области, что вызывало определённую озабоченность руководства ДВР, хотя её истеблишмент был партизанским и далёким от принципиальной борьбы с бандитизмом и мародёрством в собственных рядах. Дальбюро ЦК РКП (б) 6 июня 1921 г. постановило освободить Василия Ганимедова от должности начальника Амгуно-Кербинского района «как тряпицынца». А осенью 1922 г. в производстве Следчасти Главного военного суда НРА и флота ДВР находилось дело бывшего начальника штаба Военно-уполномоченного Амгуно-Кербинского приискового района П. Г. Тентерева, обвинявшегося в недонесении и пособничестве преступлениям В. Ганимедова (сам Ганимедов на 1 августа 1922 г. содержался под арестом в Военном отделе ГПО ДВР). Тем не менее, Тентерев тогда же был освобождён под поручительство какого-то высокопоставленного лица. Характерно, что основные персонажи суда над тряпицынцами были вынуждены бежать из страны, оказавшись в Японии и Китае (И. Т. Андреев), в США (А. З. Овчинников). Такой исход участников ликвидации тряпицынщины — это не закономерное исчезновение за кордон «белых заговорщиков», как считает склонный к конспирологическим обобщениям Г. Г. Лёвкин, а логичные поступки людей, спасавшихся от партизанской мести. Хотя в этом можно видеть и проявление политической беспринципности, весьма свойственной партизанам.
На суде сами партизаны говорили об уничтожении около половины населения региона. К началу 1920 г. численность жителей области руководители коммуны оценивали почти в 30 тысяч человек. В результате тряпицынской резни население Сахалинской области в 1920 г. сократилось, по некоторым данным, до 10 тысяч человек, а саму область вскоре ликвидировали, слив с Приамурской областью. В конце 1920 г. руководство Сахалинской области определяло численность русского населения в 17 тысяч, инородческого — в 1 200 человек. Таким образом, минимальное число жертв тряпицынщины в одном Николаевске можно оценить, как и современники событий, в 6−7 тысяч человек (включая белый гарнизон и японцев); по оценке же сахалинских властей — исходя из 18 тысяч уцелевшего населения, — цифра потерь в целом по области была на уровне не менее 10−15 тысяч человек, включая умерших от голода и лишений.
Публикуемый документ важен для опровержения аргументации апологетов тряпицынщины. Известно, что партизанские судилища обычно выглядели предельно упрощённо. В них нечасто применяли процедуру сколько-нибудь основательного расследования, упирая больше на скорость осуждения и исполнения смертного приговора. Например, приговор от 1 ноября 1919 г., вынесенный командирами рот и прочими отрядниками (всего 33 человека) действовавшего в Барабинской степи Томской губернии 9-го Каргатского полка, имел следующую формулировку: «..Бывший наш командир 1-го баталиона Павел Твердохлеб являлся не товарищем, а деспотом и держал со времени организации [отряда] до настоящего времени весь район в своих кровавых руках, а потому с разрешения товарищей всего баталиона единогласно постановили: предать Твердохлеба Павла Ульянова сейчас же смертной казни чрез расстрел. О всех подробностях его незаконных действий поручить после приведения приговора в исполнение разследование следственной комиссии»[63]. Исполнение приговора прежде расследования отражало своеобразное понимание партизанами порядка судебно-следственных процедур.
В этом смысле не являются исключением и материалы партизанского суда над тряпицынцами. Однако при общей предопределённости результата этого судилища, в нём было подобие кратких судебных прений, заслушивание обвиняемых и свидетелей, а также документальные обоснования терроризма видных тряпицынцев. Предлагаемый документ является очень красноречивым и цитируемым источником, давно нуждаясь в полной и комментированной публикации. Не отличающийся объективностью конспект протокола судебного заседания можно найти только в малодоступной книге И. И. Жуковского-Жука 1922 г. «Н. Лебедева и
Я. Тряпицын. Партизанское движение в низовьях Амура" (с. 86−92), где автор сознательно опустил ряд особенно компрометирующих тряпицынцев эпизодов. Тем не менее, Жуковский-Жук в своём достаточно подробном конспекте протокола привёл значимые факты и дал представление об этом документе. Составители ценного документального сборника о дальневосточной политике РСФСР периода Гражданской войны ограничились воспроизведением минимального по объёму фрагмента протокола. Наконец, в содержательной книге историка В. Смоляка «Междоусобица» (2008 г.) обширные фрагменты протокольной записи даны с неоговорёнными сокращениями и значительной литературной правкой, приближающей текст к пересказу.
Протокол суда над тряпицынцами при всей относительной краткости и умолчаниях насыщен информацией и даёт важные сведения о массовых самочинных жестоких казнях, расправах над детьми, изнасилованиях, грабежах, которые позволяют доказательно оспаривать мнения многочисленных современных апологетов тряпицынщины. Введение в научный оборот этого ценного источника позволяет расширить документальную базу, относящуюся к одной из самых драматических страниц Гражданской войны. Документ печатается по заверенной копии, направленной хабаровскими большевиками для сведения Сиббюро ЦК РКП (б) и сохранившейся в фондах Государственного архива Новосибирской области.
https://rusk.ru/st.php?idar=75107
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.04 / 6
-

Санкт-Петербург
Карма: -77.59
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
Фактически убийцы тов. Воровского — не ничтожные наймиты Конради и Полунин, а те социал-предатели, которые, скрывшись от народного гнева за пределы досягаемости, еще продолжают подготовлять почву для наступления против руководителей русского пролетариата. Они забыли о нашей дальновидности, проявленной нами в августе 1922 года, когда мы приостановили приговор Верховного Трибунала, вопреки настойчивому желанию всех трудящихся масс. Теперь мы можем им напомнить, что постановление еще не потеряло силы, и за смерть тов. Воровского мы сумеем потребовать к ответу их друзей, находящихся в нашем распоряжении…»[40]
«Заложники — капитал для обмена…» Эта фраза известного чекиста Лациса, может быть, имела некоторый смысл по отношению к иностранным подданным, во время польско-русской войны. Русский заложник — это лишь форма психического воздействия, это лишь форма устрашения, на котором построена вся внутренняя политика, вся система властвования большевиков.
Знаменительно, что большевиками собственно осуществлено то, что в 1881 г. казалось невозможным самым реакционным кругам. 5-го марта 1881 года гр. Камаровский впервые высказал в письме к Победоносцеву[41] мысль о групповой ответственности. Он писал: «… не будет ли найдено полезным объявить всех уличенных участников в замыслах революционной партии за совершенные ею неслыханные преступления, состоящими вне закона и за малейшее их новое покушение или действие против установленного законом порядка в России ответственными поголовно, in corpore, жизнью их».
Такова гримаса истории или жизни…
«Едва ли, действительно, есть более яркое выражение варварства, точнее, господства грубой силы над всеми основами человеческого общества, чем этот институт заложничества» — писал старый русский революционер Н. В. Чайковский по поводу заложничества в наши дни. «Для того, чтобы дойти не только до применения его на практике, но и до открытого превозглашения, нужно действительно до конца эмансипироваться от этих веками накопленных ценностей человеческой культуры и внутренне преклониться перед молохом войны, разрушения и зла».
«Человечество потратило много усилий, чтобы завоевать… первую истину всякого правосознания:
— Нет наказания, если нет преступления» — напоминает выпущенное по тому же поводу в 1921 г. воззвание «Союза русских литераторов и журналистов в Париже»[42].
«И мы думаем, что как бы ни были раскалены страсти в той партийной и политической борьбе, которая таким страшным пожаром горит в современной России, но эта основная, эта первая заповедь цивилизации не может быть попрана ни при каких обстоятельствах:
— Нет наказания, если нет преступления.
Мы протестуем против возможного убийства ни в чем неповинных людей.
Мы протестуем против этой пытки страхом. Мы знаем, какие мучительные ночи проводят русские матери и русские отцы, дети которых попали в заложники. Мы знаем, точно также, что переживают заложники в ожидании смерти за чужое, не ими совершенное, преступление.
И потому мы говорим:
— Вот жестокость, которая не имеет оправдания.
— Вот варварство, которому не должно быть места в человеческом обществе…»
«Не должно быть…» Кто слышит это?
2. «Террор навязан»
«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов… является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи»
Бухарин
Террор в изображении большевистских деятелей нередко представляется, как следствие возмущения народных масс. Большевики вынуждены были прибегнуть к террору под давлением рабочего класса. Мало того, государственный террор лишь вводил в известные правовые нормы неизбежный самосуд. Более фарисейскую точку зрения трудно себе представить и нетрудно показать на фактах, как далеки от действительности подобные заявления.
В записке народного комиссара внутренних дел и в то же время истинного творца и руководителя «красного террора» Дзержинского, поданной в совет народных комиссаров 17-го февраля 1922 г., между прочим, говорилось: «В предположении, что вековая старая ненависть революционного пролетариата против поработителей поневоле выльется в целый ряд бессистемных кровавых эпизодов, причем возбужденные элементы народного гнева сметут не только врагов, но и друзей, не только враждебные и вредные элементы, но и сильные и полезные, я стремился провести систематизацию карательного аппарата революционной власти. За все время „Чрезвычайная комиссия была не что иное, как разумное направление карающей руки революционного пролетариата“»[43].
Мы покажем ниже, в чем заключалась эта «разумная» систематизация карательного аппарата государственной власти. Проект об организации Всероссийской Чрезвычайной комиссии, составленный Дзержинским еще 7-го декабря 1917 г. на основании «исторического изучения прежних революционных эпох», находился в полном соответствии с теориями, которые развивали большевистские идеологи. Ленин еще весной 1917 г. утверждал, что социальную революцию осуществить весьма просто: стоит лишь уничтожить 200–300 буржуев. Известно, что Троцкий в ответ на книгу Каутского «Терроризм и коммунизм» дал «идейное обоснование террора», сведшееся впрочем к чрезмерно простой истине: «враг должен быть обезврежен; во время войн это значит — уничтожен». «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать»[44]. И прав был Каутский, сказавший, что не будет преувеличением назвать книгу Троцкого «хвалебным гимном во славу бесчеловечности». Эти кровавые призывы по истине составляют по выражению Каутского «вершину мерзости революции». «Планомерно проведенный и всесторонне обдуманный террор нельзя смешивать с эксцессами взбудораженной толпы. Эти эксцессы исходят из самых некультурных, грубейших слоев населения, террор же осуществлялся высококультурными, исполненными гуманности людьми». Эти слова идеолога немецкой социал-демократии относятся к эпохе великой французской революции[45]. Они могут быть повторены и в XX веке: идеологи коммунизма возродили отжившее прошлое, в самых худших его формах. Демагогическая агитация «высококультурных», исполненных якобы «гуманностью» людей, бесстыдно творила кровавое дело.
«Заложники — капитал для обмена…» Эта фраза известного чекиста Лациса, может быть, имела некоторый смысл по отношению к иностранным подданным, во время польско-русской войны. Русский заложник — это лишь форма психического воздействия, это лишь форма устрашения, на котором построена вся внутренняя политика, вся система властвования большевиков.
Знаменительно, что большевиками собственно осуществлено то, что в 1881 г. казалось невозможным самым реакционным кругам. 5-го марта 1881 года гр. Камаровский впервые высказал в письме к Победоносцеву[41] мысль о групповой ответственности. Он писал: «… не будет ли найдено полезным объявить всех уличенных участников в замыслах революционной партии за совершенные ею неслыханные преступления, состоящими вне закона и за малейшее их новое покушение или действие против установленного законом порядка в России ответственными поголовно, in corpore, жизнью их».
Такова гримаса истории или жизни…
«Едва ли, действительно, есть более яркое выражение варварства, точнее, господства грубой силы над всеми основами человеческого общества, чем этот институт заложничества» — писал старый русский революционер Н. В. Чайковский по поводу заложничества в наши дни. «Для того, чтобы дойти не только до применения его на практике, но и до открытого превозглашения, нужно действительно до конца эмансипироваться от этих веками накопленных ценностей человеческой культуры и внутренне преклониться перед молохом войны, разрушения и зла».
«Человечество потратило много усилий, чтобы завоевать… первую истину всякого правосознания:
— Нет наказания, если нет преступления» — напоминает выпущенное по тому же поводу в 1921 г. воззвание «Союза русских литераторов и журналистов в Париже»[42].
«И мы думаем, что как бы ни были раскалены страсти в той партийной и политической борьбе, которая таким страшным пожаром горит в современной России, но эта основная, эта первая заповедь цивилизации не может быть попрана ни при каких обстоятельствах:
— Нет наказания, если нет преступления.
Мы протестуем против возможного убийства ни в чем неповинных людей.
Мы протестуем против этой пытки страхом. Мы знаем, какие мучительные ночи проводят русские матери и русские отцы, дети которых попали в заложники. Мы знаем, точно также, что переживают заложники в ожидании смерти за чужое, не ими совершенное, преступление.
И потому мы говорим:
— Вот жестокость, которая не имеет оправдания.
— Вот варварство, которому не должно быть места в человеческом обществе…»
«Не должно быть…» Кто слышит это?
2. «Террор навязан»
«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов… является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи»
Бухарин
Террор в изображении большевистских деятелей нередко представляется, как следствие возмущения народных масс. Большевики вынуждены были прибегнуть к террору под давлением рабочего класса. Мало того, государственный террор лишь вводил в известные правовые нормы неизбежный самосуд. Более фарисейскую точку зрения трудно себе представить и нетрудно показать на фактах, как далеки от действительности подобные заявления.
В записке народного комиссара внутренних дел и в то же время истинного творца и руководителя «красного террора» Дзержинского, поданной в совет народных комиссаров 17-го февраля 1922 г., между прочим, говорилось: «В предположении, что вековая старая ненависть революционного пролетариата против поработителей поневоле выльется в целый ряд бессистемных кровавых эпизодов, причем возбужденные элементы народного гнева сметут не только врагов, но и друзей, не только враждебные и вредные элементы, но и сильные и полезные, я стремился провести систематизацию карательного аппарата революционной власти. За все время „Чрезвычайная комиссия была не что иное, как разумное направление карающей руки революционного пролетариата“»[43].
Мы покажем ниже, в чем заключалась эта «разумная» систематизация карательного аппарата государственной власти. Проект об организации Всероссийской Чрезвычайной комиссии, составленный Дзержинским еще 7-го декабря 1917 г. на основании «исторического изучения прежних революционных эпох», находился в полном соответствии с теориями, которые развивали большевистские идеологи. Ленин еще весной 1917 г. утверждал, что социальную революцию осуществить весьма просто: стоит лишь уничтожить 200–300 буржуев. Известно, что Троцкий в ответ на книгу Каутского «Терроризм и коммунизм» дал «идейное обоснование террора», сведшееся впрочем к чрезмерно простой истине: «враг должен быть обезврежен; во время войн это значит — уничтожен». «Устрашение является могущественным средством политики, и надо быть лицемерным ханжой, чтобы этого не понимать»[44]. И прав был Каутский, сказавший, что не будет преувеличением назвать книгу Троцкого «хвалебным гимном во славу бесчеловечности». Эти кровавые призывы по истине составляют по выражению Каутского «вершину мерзости революции». «Планомерно проведенный и всесторонне обдуманный террор нельзя смешивать с эксцессами взбудораженной толпы. Эти эксцессы исходят из самых некультурных, грубейших слоев населения, террор же осуществлялся высококультурными, исполненными гуманности людьми». Эти слова идеолога немецкой социал-демократии относятся к эпохе великой французской революции[45]. Они могут быть повторены и в XX веке: идеологи коммунизма возродили отжившее прошлое, в самых худших его формах. Демагогическая агитация «высококультурных», исполненных якобы «гуманностью» людей, бесстыдно творила кровавое дело.
De die in diem verba volant, scripta manent - изо дня в день слова исчезают, написанное остаётся
- +0.01 / 5
-

Санкт-Петербург
Карма: -77.59
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 13,435
Читатели: 7
Не считаясь с реальными фактами, большевики утверждали, что террор в России получил применение лишь после террористических покушений на так называемых вождей пролетариата. Латыш Лацис, один из самых жестоких чекистов, имел смелость в августе 1918 г. говорить об исключительной гуманности советской власти: «нас убивают
тысячами (!!!), а мы ограничиваемся арестом» (!!). А Петерс, как мы уже видели, с какой-то исключительной циничностью публично даже утверждал, что до убийства, напр., Урицкого, в Петрограде не было смертной казни.
Начав свою правительственную деятельность в целях демагогических с отмены смертной казни[46], большевики немедленно ее восстановили. Уже 8-го января 1918 г. в объявлении Совета народных комиссаров говорилось о «создании батальонов для рытья окопов из состава буржуазного класса мужчин и женщин, под надзором красногвардейцев». «Сопротивляющихся расстреливать» и дальше: контрреволюционных агитаторов «расстреливать на месте преступления»[47].
Другими словами, восстанавливалась смертная казнь на месте без суда и разбирательства. Через месяц появляется объявление знаменитой впоследствии Всероссийской Чрезвычайной Комиссии: «…контрреволюционные агитаторы… все бегущие на Дон для поступления в контрреволюционные войска… будут беспощадно расстреливаться отрядом комиссии на месте преступления». Угрозы стали сыпаться, как из рога изобилия: «мешочники расстреливаются на месте» (в случае сопротивления), расклеивающие прокламации «немедленно расстреливаются»[48] и т. и. Однажды совет народных комиссаров разослал по железным дорогам экстренную депешу о каком-то специальной поезде, следовавшем из Ставки в Петроград: «если в пути до Петербурга с поездом произойдет задержка, то виновники ее будут расстреляны». «Конфискация всего имущества и расстрел» ждет тех, кто вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле. Угрозы расстрелом разнообразны. И характерно, что приказы о расстрелах издаются не одним только центральным органом, а всякого рода революционными комитетами: в Калужской губ. объявляется, что будут расстреляны за неуплату контрибуций, наложенных на богатых; в Вятке «за выход из дома после 8 часов»; в Брянске за пьянство; в Рыбинске — за скопление на улицах и притом «без предупреждения». Грозили не только расстрелом: комиссар города Змиева обложил город контрибуцией и грозил, что неуплатившие «будут утоплены с камнем на шее в Днестре»[49]. Еще более выразительное: главковерх Крыленко, будущий главный обвинитель в Верховном Революционном Трибунале, хранитель законности в советской России, 22-го января объявлял: «Крестьянам Могилевской губернии предлагаю расправиться с насильниками по своему рассмотрению». Комиссар Северного района и Западной Сибири в свою очередь опубликовал: «если виновные не будут выданы, то на каждые 10 человек по одному будут расстреляны, нисколько не разбираясь, виновен или нет».
Таковы приказы, воззвания, объявления о смертной казни…
Цитируя их, один из старых борцов против смертной казни в России, д-р Жбанков писал в «Общественном враче»[50]: «Почти все они дают широкий простор произволу и усмотрению отдельных лиц и даже разъяренной ничего не разбирающей толпе», т. е. узаконивается самосуд.
Смертная казнь еще в 1918 г. была восстановлена в пределах, до которых она никогда не доходила и при царском режиме. Таков был первый результат систематизации карательного аппарата «революционной власти». По презрению элементарных человеческих прав и морали центр шел впереди и показывал тем самым пример. 21-го февраля в связи с наступлением германских войск особым манифестом «социалистическое отечество» было провозглашено в опасности и вместе с тем действительно вводилась смертная казнь в широчайших размерах: «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления»[51].
Не могло быть ничего более возмутительного, чем дело капитана Щастного, рассматривавшееся в Москве в мае 1918 г. в так называемом Верховном Революционном Трибунале. Капитан Щастный спас остаток русского флота в Балтийском море от сдачи немецкой эскадре и привел его в Кронштадт. Он был обвинен тем не менее в измене. Обвинение было формулировано так: «Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти». Главным, но и единственным свидетелем против Щастного выступил Троцкий. 22-го мая Щастный был расстрелян «за спасение Балтийского флота». Этим приговором устанавливалась смертная казнь уже и по суду. Эта «кровавая комедия хладнокровного человекоубийства» вызвала яркий протест со стороны лидера социал-демократов-меньшевиков Мартова, обращенный к рабочему классу. На него не получалось однако тогда широких откликов, ибо вся политическая позиция Мартова и его единомышленников в то время сводилась к призыву работать с большевиками для противодействия грядущей контр-революции.[52]
тысячами (!!!), а мы ограничиваемся арестом» (!!). А Петерс, как мы уже видели, с какой-то исключительной циничностью публично даже утверждал, что до убийства, напр., Урицкого, в Петрограде не было смертной казни.
Начав свою правительственную деятельность в целях демагогических с отмены смертной казни[46], большевики немедленно ее восстановили. Уже 8-го января 1918 г. в объявлении Совета народных комиссаров говорилось о «создании батальонов для рытья окопов из состава буржуазного класса мужчин и женщин, под надзором красногвардейцев». «Сопротивляющихся расстреливать» и дальше: контрреволюционных агитаторов «расстреливать на месте преступления»[47].
Другими словами, восстанавливалась смертная казнь на месте без суда и разбирательства. Через месяц появляется объявление знаменитой впоследствии Всероссийской Чрезвычайной Комиссии: «…контрреволюционные агитаторы… все бегущие на Дон для поступления в контрреволюционные войска… будут беспощадно расстреливаться отрядом комиссии на месте преступления». Угрозы стали сыпаться, как из рога изобилия: «мешочники расстреливаются на месте» (в случае сопротивления), расклеивающие прокламации «немедленно расстреливаются»[48] и т. и. Однажды совет народных комиссаров разослал по железным дорогам экстренную депешу о каком-то специальной поезде, следовавшем из Ставки в Петроград: «если в пути до Петербурга с поездом произойдет задержка, то виновники ее будут расстреляны». «Конфискация всего имущества и расстрел» ждет тех, кто вздумает обойти существующие и изданные советской властью законы об обмене, продаже и купле. Угрозы расстрелом разнообразны. И характерно, что приказы о расстрелах издаются не одним только центральным органом, а всякого рода революционными комитетами: в Калужской губ. объявляется, что будут расстреляны за неуплату контрибуций, наложенных на богатых; в Вятке «за выход из дома после 8 часов»; в Брянске за пьянство; в Рыбинске — за скопление на улицах и притом «без предупреждения». Грозили не только расстрелом: комиссар города Змиева обложил город контрибуцией и грозил, что неуплатившие «будут утоплены с камнем на шее в Днестре»[49]. Еще более выразительное: главковерх Крыленко, будущий главный обвинитель в Верховном Революционном Трибунале, хранитель законности в советской России, 22-го января объявлял: «Крестьянам Могилевской губернии предлагаю расправиться с насильниками по своему рассмотрению». Комиссар Северного района и Западной Сибири в свою очередь опубликовал: «если виновные не будут выданы, то на каждые 10 человек по одному будут расстреляны, нисколько не разбираясь, виновен или нет».
Таковы приказы, воззвания, объявления о смертной казни…
Цитируя их, один из старых борцов против смертной казни в России, д-р Жбанков писал в «Общественном враче»[50]: «Почти все они дают широкий простор произволу и усмотрению отдельных лиц и даже разъяренной ничего не разбирающей толпе», т. е. узаконивается самосуд.
Смертная казнь еще в 1918 г. была восстановлена в пределах, до которых она никогда не доходила и при царском режиме. Таков был первый результат систематизации карательного аппарата «революционной власти». По презрению элементарных человеческих прав и морали центр шел впереди и показывал тем самым пример. 21-го февраля в связи с наступлением германских войск особым манифестом «социалистическое отечество» было провозглашено в опасности и вместе с тем действительно вводилась смертная казнь в широчайших размерах: «неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления»[51].
Не могло быть ничего более возмутительного, чем дело капитана Щастного, рассматривавшееся в Москве в мае 1918 г. в так называемом Верховном Революционном Трибунале. Капитан Щастный спас остаток русского флота в Балтийском море от сдачи немецкой эскадре и привел его в Кронштадт. Он был обвинен тем не менее в измене. Обвинение было формулировано так: «Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти». Главным, но и единственным свидетелем против Щастного выступил Троцкий. 22-го мая Щастный был расстрелян «за спасение Балтийского флота». Этим приговором устанавливалась смертная казнь уже и по суду. Эта «кровавая комедия хладнокровного человекоубийства» вызвала яркий протест со стороны лидера социал-демократов-меньшевиков Мартова, обращенный к рабочему классу. На него не получалось однако тогда широких откликов, ибо вся политическая позиция Мартова и его единомышленников в то время сводилась к призыву работать с большевиками для противодействия грядущей контр-революции.[52]
De die in diem verba volant, scripta manent - изо дня в день слова исчезают, написанное остаётся
- +0.02 / 7
-
Памятный знак одиннадцати заложникам, расстрелянным в ночь на 25 сентября 1918 в г. Данков Рязанской губернии (совр. Липецкой обл.). Установлен в 2011 на окраине старого городского кладбища. На вертикально установленом щите надпись: "Здесь покоятся тела дановчан, расстрелянных в ночь на 25.09.1918 г. без суда и следствия", ниже приводится список имен: "Голев Алексей - купец, Окороков Петр - исправник, Демидов Иван - купец, Безменова Любовь - учительница, Харкевич Михаил - служащий, Бардин Степан - купец, Трунин Виталий - нач. тюрьмы, Грищенко Никита - служащий, Соболев Степан - техник, Веселовзоров Иван - псаломщик, Харламов Александр - правый эсер".
В ночь на 24 сентября 1918 в г. Данкове был совершен теракт - брошена бомба в общежитие Данковского уездного Совета. В ответ большевистские власти расстреляли 11 заложников. Расстрел был произведен в ночь на 25 сентября в поле за городским кладбищем. В течение многих лет жительница Данкова Т.В. Безменова (родственница расстрелянной учительницы Л. Безменовой), которой было известно место расстрела, охраняла его от запашки под зерновые. В 2011 по инициативе потомков расстрелянных место захоронения было обнесено оградой и обустроено: установлены деревянные кресты и информационный памятный знак. Средства на обустройство выделили местные власти. Учащиеся данковской средней школы № 6 и других учебных заведений в День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, посещают место захоронения, убирают его территорию.
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.06 / 6
-

В Данкове 1 сентября 1918 года Данковский уисполком и Уком партии опубликовал объявление о массовом терроре и введении военного положения: «В связи с покушением на вождей революции объявляется по Данковскому уезду массовый террор и военное положение. За каждого убитого члена Совета, партийного большевика — коммуниста, красноармейца будут расстреляны 250 человек. Появляться на улице разрешается с 7 часов утра и до 11 часов ночи. Ранее выданные объявления недействительны. Объявление входит в силу с момента опубликования».
5 сентября 1918 года заместитель Данковского ЧК Чванкин на заседании предложил каждому из присутствующих написать список лиц из заложников, подлежащих расстрелу, а затем составил общий список, ни с кем его не согласовав. «Данковская ЧК взяла в заложники бывшего исправника Петра Окорокова, бывшего начальника тюрьмы Виталия Трунина, бывшего начальника милиции правого эсера Александра Соболева, бывшего надзирателя Михаила Харкевича, семидесятилетнего помещика Ивана Демидова, купца Никиту Грищенко, купца Алексея Голева, бывшего секретаря полиции правого эсера Леонида Харламова, помещика Степана Бардина. В список для расстрела была внесена и 18-летняя бигильдинская учительница Любовь Васильевна Безменова, как контрреволюционерка, отвергнувшая притязания чекиста Чванкина.
В ночь на 25 сентября 10 указанных заложников повели на расстрел, хотя постановление о расстреле этих лиц не было вынесено. Председатель уездной ЧК Котов сказал: «Мы найдём причины их виновности, постановление об их расстреле напишем после исполнения». Когда вели заложников на расстрел, по дороге захватили псаломщика Веселовзорова, члена союза земельных собственников, который не был указан в списке, просто случайно оказался в это время на улице. И всех 11 человек расстреляли.
25 сентября в г. Данкове прошли памятные мероприятия, посвященные 100-летней годовщине этих трагических событий. В них приняли участие активисты Липецкого Регионального отделения «Двуглавого Орла» и представители Липецкого отделения «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья». В краеведческом музее г. Данкова состоялось открытие выставки, посвященной этим событиям, краеведы рассказали присутствующим об участниках и деталях кровавой расправы. Далее все проследовали на место убийства и захоронения заложников возле старого городского кладбища. Здесь прошел митинг, в котором выступили краеведы, представители данковской общественности, казачества и «Двуглавого Орла», была отслужена панихида, участники возложили венки к памятной доске с именами убиенных. При участии ОРРИП «Двуглавый Орел» на месте трагедии начались работы по строительству часовни.
https://rusorel.info/panixida-…v-dankove/
Отредактировано: Гималаев Илья - 01 янв 1970
- -0.12 / 8
-
|
|
| Сейчас на ветке: 2, Модераторов: 0, Пользователей: 0, Гостей: 0, Ботов: 2 |
|---|