Мировая Закулиса или Театр Теней
7,873,206
11,119
- Фильтр
|
|
oldmenspb ( Слушатель ) |
| 12 июн 2013 19:29:13 |
Тред №579546
новая дискуссия Дискуссия 196
новая дискуссия Дискуссия 196
http://www.fontanka.ru/2013/06/09/074/
"... вечеру 10 июня в Лондоне в Кенсингтонском дворце, где живет часть королевской семьи, соберутся важные аристократы Англии. Среди представителей палаты пэров и палаты лордов можно будет увидеть знаковые фигуры британского истэблишмента – маркиза Саймона Рединга и бывшего министра королевского ВМФ лорда Алана Веста.
Возглавит своих принц Майкл Кентский – родственник Николая II и любимчик королевы Елизаветы II.
Особы встречаются в 19:00 по Гринвичу с представителями российской бизнес-элиты. С нашей стороны она представлена: председателем правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олегом Бударгиным, председателем совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний «Содружество» петербуржцем Николаем Кононовым, владельцами ОАО «Объединенная финансово-промышленная корпорация» Дмитрием Терехиным и Иваном Житеневым, совладельцем «Смарт-холдинг» Андрей Клямко, заметны также будут и непростые подрядчики "Газпрома". Возглавляет делегацию миллиардеров депутат Государственной думы Василий Шестаков
Все они так или иначе политические или экономические поклонники самбо. Если Василий Шестаков начал бороться на ковре вместе с Владимиром Путиным и сегодня является президентом Международной федерации самбо, то маркиз Саймон Рединг, кому должен быть ближе крикет и регби, дирижирует в федерации самбо 54-х стран Британского Содружества.
Официально церемония названа «Благотворительный вечер, посвященный 75-летию самбо». После того как церемониймейстер ударит жезлом столько раз, сколько в зал дворца зайдет гостей, будет зачитано приветствие Владимира Путина...
... по нашей информации, главной целью встречи в Кенсингтонском дворце все же являются договоренности о создании британского фонда «Позитивная Россия», в совет которого должен войти и принц Кентский, и маркиз Рединг. Фактически это новый вариант телекомпании Russia Today, только под патронажем английских аристократов...
... на благотворительный вечер ни российская, ни британская сторона не потратила ни пенса. За банкет заплатил близкий друг Сильвио Берлускони, владелец крупной инвестиционной компании Concern General Invest и почетный президент федерации самбо в Италии Винченцо Трани.
Сам же Шестаков будет чувствовать себя после приема во дворце комфортно в любом случае. 8 мая 2013 года Англия подала знак России - он стал почетным гражданином Лондонского сити (до этого уважение оказывалось Екатерине II, Николаю II и трем советским академикам). Согласно традиции, идущей чуть ли не с XII века, этим Василию Борисовичу даровали три главных привилегии: если не прав, быть повешенным на шелковой веревке, быть отправленным домой за счет полиции в случае чрезмерного опьянения и бесплатно переправить через Темзу стадо овец.
А в Санкт-Петербурге Василий Шестаков имеет лишь кабинет в 12 квадратных метров в Высшей школе спортивного мастерства на Крестовском острове, где он боролся с 1980 года и проработал директором..."
Это был такой внезапно подробный анонс от регионального издания
А сообщение о состоявшейся встрече - сугубо протокольное http://www.fontanka.ru/2013/06/12/028/
К уже упомянутым лицам добавлен лишь Якунин...
"... вечеру 10 июня в Лондоне в Кенсингтонском дворце, где живет часть королевской семьи, соберутся важные аристократы Англии. Среди представителей палаты пэров и палаты лордов можно будет увидеть знаковые фигуры британского истэблишмента – маркиза Саймона Рединга и бывшего министра королевского ВМФ лорда Алана Веста.
Возглавит своих принц Майкл Кентский – родственник Николая II и любимчик королевы Елизаветы II.
Особы встречаются в 19:00 по Гринвичу с представителями российской бизнес-элиты. С нашей стороны она представлена: председателем правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олегом Бударгиным, председателем совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний «Содружество» петербуржцем Николаем Кононовым, владельцами ОАО «Объединенная финансово-промышленная корпорация» Дмитрием Терехиным и Иваном Житеневым, совладельцем «Смарт-холдинг» Андрей Клямко, заметны также будут и непростые подрядчики "Газпрома". Возглавляет делегацию миллиардеров депутат Государственной думы Василий Шестаков
Все они так или иначе политические или экономические поклонники самбо. Если Василий Шестаков начал бороться на ковре вместе с Владимиром Путиным и сегодня является президентом Международной федерации самбо, то маркиз Саймон Рединг, кому должен быть ближе крикет и регби, дирижирует в федерации самбо 54-х стран Британского Содружества.
Официально церемония названа «Благотворительный вечер, посвященный 75-летию самбо». После того как церемониймейстер ударит жезлом столько раз, сколько в зал дворца зайдет гостей, будет зачитано приветствие Владимира Путина...
... по нашей информации, главной целью встречи в Кенсингтонском дворце все же являются договоренности о создании британского фонда «Позитивная Россия», в совет которого должен войти и принц Кентский, и маркиз Рединг. Фактически это новый вариант телекомпании Russia Today, только под патронажем английских аристократов...
... на благотворительный вечер ни российская, ни британская сторона не потратила ни пенса. За банкет заплатил близкий друг Сильвио Берлускони, владелец крупной инвестиционной компании Concern General Invest и почетный президент федерации самбо в Италии Винченцо Трани.
Сам же Шестаков будет чувствовать себя после приема во дворце комфортно в любом случае. 8 мая 2013 года Англия подала знак России - он стал почетным гражданином Лондонского сити (до этого уважение оказывалось Екатерине II, Николаю II и трем советским академикам). Согласно традиции, идущей чуть ли не с XII века, этим Василию Борисовичу даровали три главных привилегии: если не прав, быть повешенным на шелковой веревке, быть отправленным домой за счет полиции в случае чрезмерного опьянения и бесплатно переправить через Темзу стадо овец.
А в Санкт-Петербурге Василий Шестаков имеет лишь кабинет в 12 квадратных метров в Высшей школе спортивного мастерства на Крестовском острове, где он боролся с 1980 года и проработал директором..."
Это был такой внезапно подробный анонс от регионального издания

А сообщение о состоявшейся встрече - сугубо протокольное http://www.fontanka.ru/2013/06/12/028/
К уже упомянутым лицам добавлен лишь Якунин...
|
|
Гришаня1 ( Слушатель ) |
| 12 июн 2013 22:34:34 |
Тред №579601
новая дискуссия Дискуссия 142
новая дискуссия Дискуссия 142
Олдмэн, Что то сильно сомневаюсь, а точнее не верю, что В.Б.Шестаков миллиардер. Сейчас ему кабинет в Питере и не нужен. Он депутат Госдумы.
Вообще то его задача, сделать самбо олимпийским видом спорта. Если баба Лиза может в этом помочь, то и эту встречу ему организовали.
Вообще то его задача, сделать самбо олимпийским видом спорта. Если баба Лиза может в этом помочь, то и эту встречу ему организовали.
|
|
Lefest ( Слушатель ) |
| 12 июн 2013 22:52:50 |
Тред №579604
новая дискуссия Дискуссия 255
новая дискуссия Дискуссия 255
Тема тут всплывает время от времени...
Вот тут португальцы тоже вспомнили
Отчаявшись остановить экономический спад и рост всех возможных дефицитов традиционными методами, руководство Португалии решило углубиться в отечественную историю, чтобы найти там ту самую роковую ошибку, после которой все в стране пошло наперекосяк. Копать пришлось глубоко, но зато не напрасно. Ошибку нашли и теперь исправляют в срочном порядке: португальцы зовут обратно к себе потомков тех евреев, которых по незнанию выгнали из страны в конце XV века.
http://slon.ru/world…2411.xhtml
Вот тут португальцы тоже вспомнили

Отчаявшись остановить экономический спад и рост всех возможных дефицитов традиционными методами, руководство Португалии решило углубиться в отечественную историю, чтобы найти там ту самую роковую ошибку, после которой все в стране пошло наперекосяк. Копать пришлось глубоко, но зато не напрасно. Ошибку нашли и теперь исправляют в срочном порядке: португальцы зовут обратно к себе потомков тех евреев, которых по незнанию выгнали из страны в конце XV века.
http://slon.ru/world…2411.xhtml
|
|
Сизиф ( Практикант ) |
| 15 июн 2013 01:03:06 |
Тред №580721
новая дискуссия Дискуссия 167
новая дискуссия Дискуссия 167
Вспомнилось по поводу на переделе
Думаю, и здесь штришок не бесполезен будет
Вот только не в офис гугла, топорно отвечть почти симметрично, так будем по их сценарию играть... Да и вони будет...
Вот напомню как Шелл строили по Сахалину - 2, когда заводили туда ГП с контрольным пакетом и заодно ельцинский СРП аннигилировали
Попросили Шелл и японцев поделиться долей, вежливо так попросили
Джаппы даже не очень против были, а Шелл уперся... И в кулуарах нам говорили, а что вы мол сделате
Поехал Митволь тогда - министр природоохранны на Сахалин "в ихнюю харю дохлой рыбой тыкать" (почти (с))
Пока тыкал, все каналы захлебывались и у них тоже
А пока он тыкал, где-то в середине улекательного процесса в Москве зашли в Хьюлит Паккард (боль-мень вежливо, но настойчиво), а в IBM так и вовсе по полной. Человек сто просто мордой в пол положили и держали больше часа пока компы и доки изымали.
И никто ничего особенно не пиарил, но эффект произведен был должный.... Показали, что далеко готовы пойти, если придется....
Для симметрии зашли еще в Ланит и Р-стайл (крупнейшие тогда системные наши интеграторы, Ланит и сейчас еще). Привязали все это к хищениям организованным таки иномонстрами в Пенсионном фонде, где тогда вернейший ВВП Батанов бабло стерег после Зурабовской вольницы.
А ведь даже не к бритам-голандцам зашли., чья номинально Шелл.. А прямо к амерским флагманам... Но не только зашли, но и начали интенсивно раскручивать... И против амерских топов в основном.
И через пару-тройку буквально недель ГП получил контроль в Сахалине -2 (оформили полностью, понятно, чуть позже, бюрократия, собрания всяческих акционеров... А как же, нешто мы не понимаем) и СРП похерили.
И ведь почти не выли в СМИ, все это время, что к ним зашли.... Тихо было, зато от эмиссаров, которые улаживать примчались, в Москве протолкнуться нельзя было
Тут как-то вдруг и с экологией на Сахалине налаживаться стало
А ведь это не только сильно до 080808 было, но и даже, емнип, до мюнхенской речи
Дело спустили, но и побочного эффекта (кроме Сахалина) тоже достигли. С тех пор аппетиты при поставках в крупные госструктыры уже тогда сразу сильно поуменьшились...
Такшта в гуглю заходить по этому поводу не будем. Найдем еще куда

Думаю, и здесь штришок не бесполезен будет
Цитата: walt от 14.06.2013 21:40:07
маски шоу в российском офисе Гугла
с приостановкой работы офиса на неделю
и как рукой, как рукой!
Вот только не в офис гугла, топорно отвечть почти симметрично, так будем по их сценарию играть... Да и вони будет...
Вот напомню как Шелл строили по Сахалину - 2, когда заводили туда ГП с контрольным пакетом и заодно ельцинский СРП аннигилировали
Попросили Шелл и японцев поделиться долей, вежливо так попросили
Джаппы даже не очень против были, а Шелл уперся... И в кулуарах нам говорили, а что вы мол сделате
Поехал Митволь тогда - министр природоохранны на Сахалин "в ихнюю харю дохлой рыбой тыкать" (почти (с))
Пока тыкал, все каналы захлебывались и у них тоже
А пока он тыкал, где-то в середине улекательного процесса в Москве зашли в Хьюлит Паккард (боль-мень вежливо, но настойчиво), а в IBM так и вовсе по полной. Человек сто просто мордой в пол положили и держали больше часа пока компы и доки изымали.
И никто ничего особенно не пиарил, но эффект произведен был должный.... Показали, что далеко готовы пойти, если придется....
Для симметрии зашли еще в Ланит и Р-стайл (крупнейшие тогда системные наши интеграторы, Ланит и сейчас еще). Привязали все это к хищениям организованным таки иномонстрами в Пенсионном фонде, где тогда вернейший ВВП Батанов бабло стерег после Зурабовской вольницы.
А ведь даже не к бритам-голандцам зашли., чья номинально Шелл.. А прямо к амерским флагманам... Но не только зашли, но и начали интенсивно раскручивать... И против амерских топов в основном.
И через пару-тройку буквально недель ГП получил контроль в Сахалине -2 (оформили полностью, понятно, чуть позже, бюрократия, собрания всяческих акционеров... А как же, нешто мы не понимаем) и СРП похерили.
И ведь почти не выли в СМИ, все это время, что к ним зашли.... Тихо было, зато от эмиссаров, которые улаживать примчались, в Москве протолкнуться нельзя было
Тут как-то вдруг и с экологией на Сахалине налаживаться стало
А ведь это не только сильно до 080808 было, но и даже, емнип, до мюнхенской речи
Дело спустили, но и побочного эффекта (кроме Сахалина) тоже достигли. С тех пор аппетиты при поставках в крупные госструктыры уже тогда сразу сильно поуменьшились...
Такшта в гуглю заходить по этому поводу не будем. Найдем еще куда


|
|
бульдозер ( Практикант ) |
| 16 июн 2013 11:57:43 |
Тред №581219
новая дискуссия Дискуссия 203
новая дискуссия Дискуссия 203
Ядерные миры Герберта Уэллса и «Новый Британский социализм».
«Мы не только сможем использовать уран и торий; мы не только станем обладателями источника энергии настолько могучей, что человек сможет унести в горсти то количество вещества, которого будет достаточно, чтобы освещать город в течение года, уничтожить эскадру броненосцев или питать машины гигантского пассажирского парохода на всем его пути через Атлантический океан…» - вот цитата из антиутопии Герберта Уэллса «Освобожденный Мир», публикации которой в Британии в нынешнем, 2013 году, исполняется ровно 100 лет. Итак- если Ядерная энергетика и Ядерное оружие было создано много и много позже- то их литературное рождение состоялось именно и ровно 100 лет назад.


Уэллс и Содди на фото.
Не представляет секрета то, откуда взял Уэллс базовую идею книги- а именно из популярных лекций Фредерика Со́дди – британского радиохимика, в дальнейшем лауреата Нобелевской премии, который во время своего пребывания в Лондоне весной 1904 года согласился быть лектором физической химии в университете Глазго, а заодно совершил большой тур по Австралии, США, Новой Зеландии с циклом бесплатных лекций под общим названием «Объяснение радия». В одном из интервью середины 1920-х годов Уэллс признался, что, когда он писал свои романы, перед ним лежала книга Фредерика Содди «Радий и его разгадка», изданная в 1909 году. Это была одна из первых в мире научно-популярных книг по атомной физике, где автор решился обсудить перспективы использования опасной энергии. Именно эту книгу рекомендовал Уэллсу в процессе переписки Николай Тесла. Так что не удивительно то, что найден был интересный и перспективный материал для сюжета, который благодаря Уэллсу получил развитие и превратился в вышеуказанное произведение. Естественно- с точки зрения крупных ученых того времени это произведение и расценивалась как фантастика на популярную в те времена тему- но я смею предположить, что определенному кругу британского Общества она в голову запала, отложилась там и… …и чтобы понять- кому и почему- нужно ответить читателю на вопрос:
« А кто же вы есть, мистер Уэллс?»
Вот этот вопрос- куда как более сложен и полного ответа на него нет. Некоторое время в одном из постов на нашем Форуме я написал, что Уэллс был крупным Британским шпионом- даже вроде как одним из руководителей Британской разведки. (Основания написать это- у меня были, но оказались весьма слабыми…) За это высказывание я был жестко раскритикован Или Маккией- и достаточно быстро понял свою ошибку. Иль Маккия был абсолютно прав- Уэллс никогда шпионом не был- это некое другое явление, которое поставило затем в тупик и самого Или Маккию. Полностью ответа на этот вопрос и сейчас нет- но, частично, судя по работам за последние 20-30 лет можно смело утверждать, что Уэллс был одним из крупнейших идеологов Британского социализма, обладающий значительным влиянием в некоторых кругах, в свою очередь оказавших тогда и продолжающих оказывать сейчас колоссальное влияние на фундаментальные мировые исторические процессы. И если –опять же- ученый мир отнесся к вышеуказанной книге с не малым скепсисом – то на некоторых она произвела вполне себе позитивное впечатление- но эти некоторые были уже не физики, а экономисты, рассматривающие экономику с точки зрения энергетической ее оснащенности. И первым таковым был уже названный мной Фредерик Содди, сразу после получения Нобелевской премии в 1921 году переключил внимание на сферу экономической, социальной и политической теорий, написав несколько книг на эти темы и начавший публикацию работ на тему «Экономика и Энергия». В книге «Богатство, Виртуальное Богатство и Долг» (George Allen & Unwin 1926), Фредерик Содди обратил внимание на роль энергии в экономических системах. Эти книги также были встречены «в штыки»- и экономисты не обращали внимания на них много-много лет, впрочем, с экономическими идеями Содди- краткому их пересказу- можно ознакомиться здесь:
http://bankir.ru/pub…z21KyRHPko
В нынешние не простые времена они стали заслуженно актуальными.
Ну а еще она –эта книга Уэллса- произвела впечатление на политиков- тех, которые тогда, в то время- еще таковыми не были, а были университетской молодежью, любящей читать фантастику… Для понимания роли Уэллса в политических процессах того времени нужно вернуться к его биографии- в том числе и литературной.
Продолжение следует.
«Мы не только сможем использовать уран и торий; мы не только станем обладателями источника энергии настолько могучей, что человек сможет унести в горсти то количество вещества, которого будет достаточно, чтобы освещать город в течение года, уничтожить эскадру броненосцев или питать машины гигантского пассажирского парохода на всем его пути через Атлантический океан…» - вот цитата из антиутопии Герберта Уэллса «Освобожденный Мир», публикации которой в Британии в нынешнем, 2013 году, исполняется ровно 100 лет. Итак- если Ядерная энергетика и Ядерное оружие было создано много и много позже- то их литературное рождение состоялось именно и ровно 100 лет назад.


Уэллс и Содди на фото.
Не представляет секрета то, откуда взял Уэллс базовую идею книги- а именно из популярных лекций Фредерика Со́дди – британского радиохимика, в дальнейшем лауреата Нобелевской премии, который во время своего пребывания в Лондоне весной 1904 года согласился быть лектором физической химии в университете Глазго, а заодно совершил большой тур по Австралии, США, Новой Зеландии с циклом бесплатных лекций под общим названием «Объяснение радия». В одном из интервью середины 1920-х годов Уэллс признался, что, когда он писал свои романы, перед ним лежала книга Фредерика Содди «Радий и его разгадка», изданная в 1909 году. Это была одна из первых в мире научно-популярных книг по атомной физике, где автор решился обсудить перспективы использования опасной энергии. Именно эту книгу рекомендовал Уэллсу в процессе переписки Николай Тесла. Так что не удивительно то, что найден был интересный и перспективный материал для сюжета, который благодаря Уэллсу получил развитие и превратился в вышеуказанное произведение. Естественно- с точки зрения крупных ученых того времени это произведение и расценивалась как фантастика на популярную в те времена тему- но я смею предположить, что определенному кругу британского Общества она в голову запала, отложилась там и… …и чтобы понять- кому и почему- нужно ответить читателю на вопрос:
« А кто же вы есть, мистер Уэллс?»
Вот этот вопрос- куда как более сложен и полного ответа на него нет. Некоторое время в одном из постов на нашем Форуме я написал, что Уэллс был крупным Британским шпионом- даже вроде как одним из руководителей Британской разведки. (Основания написать это- у меня были, но оказались весьма слабыми…) За это высказывание я был жестко раскритикован Или Маккией- и достаточно быстро понял свою ошибку. Иль Маккия был абсолютно прав- Уэллс никогда шпионом не был- это некое другое явление, которое поставило затем в тупик и самого Или Маккию. Полностью ответа на этот вопрос и сейчас нет- но, частично, судя по работам за последние 20-30 лет можно смело утверждать, что Уэллс был одним из крупнейших идеологов Британского социализма, обладающий значительным влиянием в некоторых кругах, в свою очередь оказавших тогда и продолжающих оказывать сейчас колоссальное влияние на фундаментальные мировые исторические процессы. И если –опять же- ученый мир отнесся к вышеуказанной книге с не малым скепсисом – то на некоторых она произвела вполне себе позитивное впечатление- но эти некоторые были уже не физики, а экономисты, рассматривающие экономику с точки зрения энергетической ее оснащенности. И первым таковым был уже названный мной Фредерик Содди, сразу после получения Нобелевской премии в 1921 году переключил внимание на сферу экономической, социальной и политической теорий, написав несколько книг на эти темы и начавший публикацию работ на тему «Экономика и Энергия». В книге «Богатство, Виртуальное Богатство и Долг» (George Allen & Unwin 1926), Фредерик Содди обратил внимание на роль энергии в экономических системах. Эти книги также были встречены «в штыки»- и экономисты не обращали внимания на них много-много лет, впрочем, с экономическими идеями Содди- краткому их пересказу- можно ознакомиться здесь:
http://bankir.ru/pub…z21KyRHPko
В нынешние не простые времена они стали заслуженно актуальными.
Ну а еще она –эта книга Уэллса- произвела впечатление на политиков- тех, которые тогда, в то время- еще таковыми не были, а были университетской молодежью, любящей читать фантастику… Для понимания роли Уэллса в политических процессах того времени нужно вернуться к его биографии- в том числе и литературной.
Продолжение следует.
Отредактировано: бульдозер - 17 июн 2013 12:53:05
|
|
бульдозер ( Практикант ) |
| 16 июн 2013 17:39:43 |
Тред №581388
новая дискуссия Дискуссия 190
новая дискуссия Дискуссия 190
Ядерные миры Герберта Уэллса и «Новый Британский социализм».
Продолжение.
«Каждый пишет то, что слышит» Булат Окуджава.
Не буду приводить полную биографию Уэллса- отмечу только некоторые моменты ее- особенно те, которые привели его в ряды идеологов некоего весьма специфического движения, весьма любопытного для нас. Будущий фантаст родился 21 сентября 1866 года в Бромли (графство Кент). Отец его, Джозеф Уэллс, был лавочником и профессиональным крикетистом, мать, Сара, экономкой. В семь лет родители его отдали в частную школу, но вскоре из-за нехватки денег учебу пришлось бросить. В 13 лет он поступил подручным в мануфактурную лавку. Однако Герберт мечтал стать ученым и потому подался в ученики фармацевта. Впрочем, вскоре он разочаровался в химии и поступил в среднюю школу в Мидхерсте, чтобы изучать латынь. В 1884 году юноша продолжил образование в школе наук в Южном Кенсингтоне, где прослушал курс биологии у знаменитого ученого Томаса Гексли, который был приверженцем теории Дарвина. Высокий интеллект Уэллса и усидчивость помогли ему получить степень бакалавра естественных наук, и он начал преподавать в школе. Писать Уэллс начал рано- с целью заработка. Случай помог опубликовать его первую научно-популярную статью, и звали этот случай Оскаром Уальдом. Первый из хужожественно-фантастических рассказов- «Препарат под микроскопом» появился в 1893 г. В течение последующих нескольких лет была создана практически вся новеллистика Уэллса, тяготеющая к фантастике, но отнюдь ею не исчерпывающаяся. В 1888 г. Уэллс начал печатать в «Сайенс скулз джорнал» повесть «Аргонавты хроноса». Закончить ее он не сумел, но на протяжении нескольких лет, отданных журналистике и новеллистике, постоянно возвращался к ней. Юношеская повесть обрастала новыми эпизодами, которые отбрасывались при каждой последующей редакции, но все не могла приобрести законченной формы. Этого удалось достичь лишь к 1895 г., когда в только что основанном журнале «Нью ревью» начал печататься «Рассказ путешественника по времени». В том же году в слегка переделанном виде «Машина времени» вышла отдельными изданиями сразу в Англии и США. Двадцатидевятилетний писатель стал классиком. «Золотой век», в который попал Путешественник по времени, опровергает все сложившиеся у него представления. Ему открывается картина всеобщего вырождения. Человечество исчезло. Вместо него к 802 701 г. появились две породы полулюдей: прекрасные, но нежизнеспособные и невежественные элои (наследники привилегированных классов, живших плодами чужого труда) и звероподобные, обросшие шерстью морлоки - труженики, тысячелетиями оторванные от культуры. Это было, по словам Путешественника, логическим завершением современной индустриальной системы. Вооруженная новейшими научными знаниями верхушка общества потрудилась не зря. Но «ее победа была не только победой над природой, но также и победой над своими собратьями-людьми». Впрочем- это далеко не все. В романе существовал еще один существенный абзац- удаленный редактором. В нем, перепрыгнув во времени из общества элоев и морлоков на энное время вперед путешественник оказался в историческом периоде населенным кроликоподобными созданиями, которые являлись добычей и основным пищевым элементом крупных морских ракообразных. С удивлением он узнает – рассматривая скелеты этих кроликообразных – что это очень отдаленные потомки человека- последнее звено, полностью выродившееся. Финиш цивилизации. Финиш человечества…
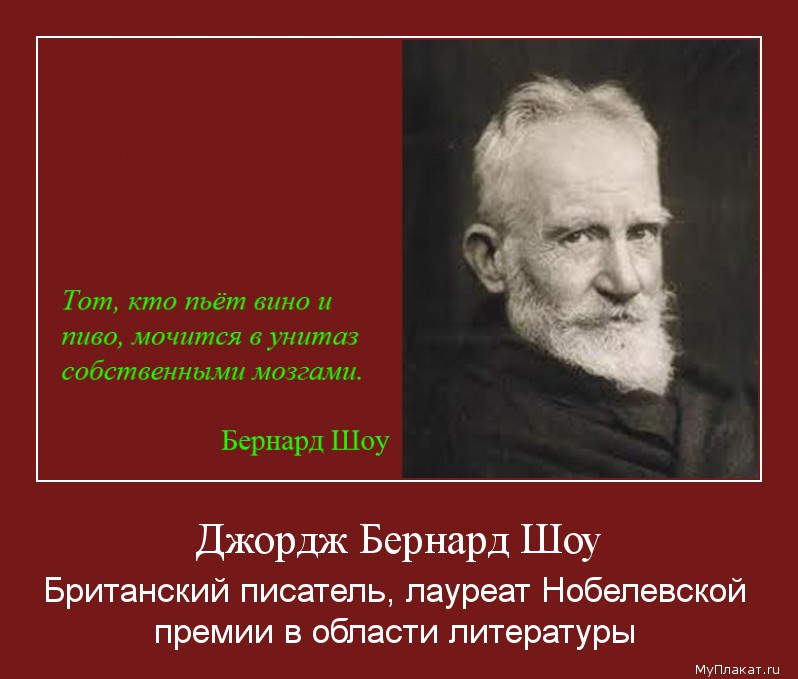
Вот этот роман, внезапно ставший черезвычайно популярным, и прочитал Бернард Шоу, заметив не только литературные, но и аналитические способности молодого автора. Оценив мрачную перспективу произведения- Шоу рекомендовал Уэллса своим друзьям- единомышленникам. И с этого момента- момента рекомендации- началась главная, политическая карьера Уэллса, а многие его произведения приобрели скрытую, но вполне очевидную для посвященных программную форму. Учитывая роль «Машины Времени» в карьере Уэллса, следующие произведения, такие как «Остров доктора Моро», "Когда спящий проснется", «Война в воздухе» и, тем более, «Освобожденный мир»- в определенном смысле слова были уже программными произведениями, написанными на темы бесед и дискуссий в том кругу, куда Уэллс попал по рекомендации Шоу.Уэллс сделал несколько попыток увидеть общество будущего в романах «Современная утопия» (1905) и «Люди как боги» (1923). В романе «В дни кометы» (1906) автор изобразил мир, где природа людей изменилась из-за того, что Земля попала в хвост кометы. Благодаря особым кометным газам они забыли распри и начали любить друг друга чистой, бескорыстной любовью. «Каждый пишет, то что слышит»… Остается описать- где такое и почему можно услышать? Что является базой для такого рода идей?
Продолжение следует.
Продолжение.
«Каждый пишет то, что слышит» Булат Окуджава.
Не буду приводить полную биографию Уэллса- отмечу только некоторые моменты ее- особенно те, которые привели его в ряды идеологов некоего весьма специфического движения, весьма любопытного для нас. Будущий фантаст родился 21 сентября 1866 года в Бромли (графство Кент). Отец его, Джозеф Уэллс, был лавочником и профессиональным крикетистом, мать, Сара, экономкой. В семь лет родители его отдали в частную школу, но вскоре из-за нехватки денег учебу пришлось бросить. В 13 лет он поступил подручным в мануфактурную лавку. Однако Герберт мечтал стать ученым и потому подался в ученики фармацевта. Впрочем, вскоре он разочаровался в химии и поступил в среднюю школу в Мидхерсте, чтобы изучать латынь. В 1884 году юноша продолжил образование в школе наук в Южном Кенсингтоне, где прослушал курс биологии у знаменитого ученого Томаса Гексли, который был приверженцем теории Дарвина. Высокий интеллект Уэллса и усидчивость помогли ему получить степень бакалавра естественных наук, и он начал преподавать в школе. Писать Уэллс начал рано- с целью заработка. Случай помог опубликовать его первую научно-популярную статью, и звали этот случай Оскаром Уальдом. Первый из хужожественно-фантастических рассказов- «Препарат под микроскопом» появился в 1893 г. В течение последующих нескольких лет была создана практически вся новеллистика Уэллса, тяготеющая к фантастике, но отнюдь ею не исчерпывающаяся. В 1888 г. Уэллс начал печатать в «Сайенс скулз джорнал» повесть «Аргонавты хроноса». Закончить ее он не сумел, но на протяжении нескольких лет, отданных журналистике и новеллистике, постоянно возвращался к ней. Юношеская повесть обрастала новыми эпизодами, которые отбрасывались при каждой последующей редакции, но все не могла приобрести законченной формы. Этого удалось достичь лишь к 1895 г., когда в только что основанном журнале «Нью ревью» начал печататься «Рассказ путешественника по времени». В том же году в слегка переделанном виде «Машина времени» вышла отдельными изданиями сразу в Англии и США. Двадцатидевятилетний писатель стал классиком. «Золотой век», в который попал Путешественник по времени, опровергает все сложившиеся у него представления. Ему открывается картина всеобщего вырождения. Человечество исчезло. Вместо него к 802 701 г. появились две породы полулюдей: прекрасные, но нежизнеспособные и невежественные элои (наследники привилегированных классов, живших плодами чужого труда) и звероподобные, обросшие шерстью морлоки - труженики, тысячелетиями оторванные от культуры. Это было, по словам Путешественника, логическим завершением современной индустриальной системы. Вооруженная новейшими научными знаниями верхушка общества потрудилась не зря. Но «ее победа была не только победой над природой, но также и победой над своими собратьями-людьми». Впрочем- это далеко не все. В романе существовал еще один существенный абзац- удаленный редактором. В нем, перепрыгнув во времени из общества элоев и морлоков на энное время вперед путешественник оказался в историческом периоде населенным кроликоподобными созданиями, которые являлись добычей и основным пищевым элементом крупных морских ракообразных. С удивлением он узнает – рассматривая скелеты этих кроликообразных – что это очень отдаленные потомки человека- последнее звено, полностью выродившееся. Финиш цивилизации. Финиш человечества…
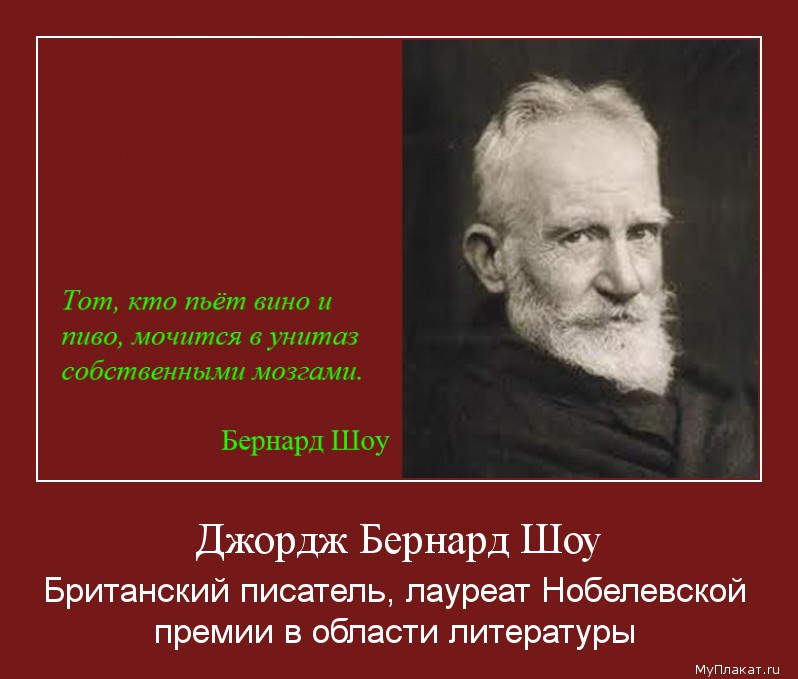
Вот этот роман, внезапно ставший черезвычайно популярным, и прочитал Бернард Шоу, заметив не только литературные, но и аналитические способности молодого автора. Оценив мрачную перспективу произведения- Шоу рекомендовал Уэллса своим друзьям- единомышленникам. И с этого момента- момента рекомендации- началась главная, политическая карьера Уэллса, а многие его произведения приобрели скрытую, но вполне очевидную для посвященных программную форму. Учитывая роль «Машины Времени» в карьере Уэллса, следующие произведения, такие как «Остров доктора Моро», "Когда спящий проснется", «Война в воздухе» и, тем более, «Освобожденный мир»- в определенном смысле слова были уже программными произведениями, написанными на темы бесед и дискуссий в том кругу, куда Уэллс попал по рекомендации Шоу.Уэллс сделал несколько попыток увидеть общество будущего в романах «Современная утопия» (1905) и «Люди как боги» (1923). В романе «В дни кометы» (1906) автор изобразил мир, где природа людей изменилась из-за того, что Земля попала в хвост кометы. Благодаря особым кометным газам они забыли распри и начали любить друг друга чистой, бескорыстной любовью. «Каждый пишет, то что слышит»… Остается описать- где такое и почему можно услышать? Что является базой для такого рода идей?
Продолжение следует.
Отредактировано: бульдозер - 16 июн 2013 18:25:30
|
|
бульдозер ( Практикант ) |
| 17 июн 2013 11:59:08 |
Тред №581644
новая дискуссия Дискуссия 212
новая дискуссия Дискуссия 212
Ядерные миры Герберта Уэллса и «Новый Британский социализм».
Продолжение.
Не буду мучить читателя загадочными намеками на некие тайные структуры – Уэллс вступил в Фабианское общество. Прежде, чем рассказать о его роли в нем, нужно ввести большинство читателей в «курс темы», ибо не все знают, что это такое и с чем это едят.
Должен сразу предупредить, что являясь одной из крупнейших мировых «систем влияния» в политике Фабианское общество не является единственным- это раз. Второе- рассказать кратко- не получится, ибо это настолько большое и сложное, что реально требует многих лет изучения. Поэтому придется рассказать «декларативно» - и карты в руки тому читателю, кому эта тема будет интересна. Второе предупреждение – в том, что существует много взглядов на эту структуру, но нас интересует 1. Взгляд из России. 2. Взгляд из Британии. Оба взгляда- правомочны и являются единым целым. А посему- сначала рассмотрим первый, а затем- второй. Должен также предупредить- что такой подход загнал бы уважаемого Иль Макию в гроб от полученного инфаркта при прочтении- но другого выхода написать подобное нет, и придется перетерпеть возможные брутальные последствия. Итак- начинаю.
Русский вариант:
Политика- как политика
Фабианство, или Фабианский социализм (англ. Fabian Socialism) — философско-экономическое течение. Получило свое название от имени римского военачальника Фабия Максима Кунктатора (Медлительного), успешно пользовавшегося тактикой выжидания в борьбе с Ганнибалом. Организационное воплощение фабианство получило в форме «Фабианского общества», основанного в Лондоне в 1884 г.
Далее- определение из Русской Википедии (впрочем- оно не сильно отличается от определения в энциклопедии Брокгауза-Ефрона..)
«Общество фабианцев имеет целью воздействовать на английский народ, чтобы он пересмотрел свою политическую конституцию в демократическом направлении и организовал своё производство социалистическим способом так, чтобы материальная жизнь стала совершенно независимой от частного капитала. …Общество фабианцев состоит из социалистов. Оно стремится к новой организации общества посредством эмансипации земли и промышленного капитала от личной и классовой собственности и посредством передачи их в руки общества в видах всеобщего блага». «Report on Fabian Policy» 1896 г. Фабианцы полагали, что преобразование капитализма в социалистическое общество должно происходить постепенно, медленно, в результате постепенных институциональных преобразований. Местопребывание Общества — Лондон, отделения — в других городах Англии. Численно общество было очень не велико – число членов в 1899 году не превышало 3000 человек с учетом периферийных отделений. (примерно такая численность сохраняется и до сих пор). Общество и не стремится особенно увеличивать это число, ставя весьма строгие требования для принятия в свою среду (либо единогласное решение исполнительного комитета, состоящего из 15 членов, либо принятие большинством 4/5 голосов общего собрания). Короче- все просто, ясно и понятно. С точки зрения – обычные либеральные болтуны, частично воспринимающие идеи Маркса и Лассаля, сытые книжные черви-буржуа, «Либеральное болото»- как в дальнейшем называли их радикальные социалисты.
Британский вариант.
Политика- как заговор (девиз Фабианского общества, вроде как предложенный Уэллсом)
Вот тут наступает некий диссонанс… После привычных- читай предыдущих текстов, следует несколько другое- уточненные определения и ссылки на параллельные интересы..Итак:
Фабиан социализм
Идеология Фабианского общества, использующая стратегию "войны на истощении". В их намерениях добиться построения социалистического государства. Особенности пропаганды отличают отличают этот вид социализма от тех видов, которые предполагают прямые революционные действия.. (далее прилагается список литературы для изучения тактики – ее море, но основной «ключ поиска»- «Тактика партизанской войны»)…..
Фабиан общество Британская социалистическая организация, целью которой является продвижение принципов социализма через постепенные и реформистские, а не революционные преобразования. Оно является самым известным из-за его первоначальный новаторской работы начиная с конца 19-го века и продолжается до первой мировой войны, после которой наступил период реформ общества, периодически продолжающийся до сих пор с целью коррекции тактики всвязи с изменяющимися мировыми обстоятельствами. В Обществе заложены основы Лейбористской партии , и впоследствии повлияли на политику государств, выходящих из деколонизации из Британской империи , особенно в Индии. Сегодня Общество функционирует главным образом в качестве мозгового центра и является одним из 15 социалистических обществ связаны с лейбористской партии. Похожие обществах существуют в Австралии ( Австралийская Fabian Society ), Канаде (Дуглас-Coldwell фонд ) и в Новой Зеландии.
Для продвижения экономических идей Фабианского Общества четыре фабианца- Беатриса и Сидней Вебб , Грэм Уоллас и Джордж Бернард Шоу основали Лондонскую школу экономики и политических наук.

То есть прямые ссылки, а также дополнительные материалы по теме строго определяют направление этого «Мозгового Центра»- которым, собственно, Фабианское Общество и является:
1. Политический терроризм
2. Экономический терроризм
3. Создание зон гуманитарного влияния- т.к. культурный терроризм
4. Разрушение морали за счет развития анти-клерикальных движений
5. Разрушение семьи за счет создания обществ «защиты прав женщин» и защите прав меньшинств (Бернард Шоу был малость не традиционной ориентации…)
Ну и остального подобного – впрочем, читателям достаточно знакомого по современной практике. Все это- в «Конфетной обертке» прав рабочего класса …
Естественно- банковский капитал тоже рассматривался- и довольно в интересной форме..Но об этом- далее.
Вот краткое описание того, куда вступил Уэллс. Для понимания сути дальнейших событий.
Продолжение следует.
Продолжение.
Не буду мучить читателя загадочными намеками на некие тайные структуры – Уэллс вступил в Фабианское общество. Прежде, чем рассказать о его роли в нем, нужно ввести большинство читателей в «курс темы», ибо не все знают, что это такое и с чем это едят.
Должен сразу предупредить, что являясь одной из крупнейших мировых «систем влияния» в политике Фабианское общество не является единственным- это раз. Второе- рассказать кратко- не получится, ибо это настолько большое и сложное, что реально требует многих лет изучения. Поэтому придется рассказать «декларативно» - и карты в руки тому читателю, кому эта тема будет интересна. Второе предупреждение – в том, что существует много взглядов на эту структуру, но нас интересует 1. Взгляд из России. 2. Взгляд из Британии. Оба взгляда- правомочны и являются единым целым. А посему- сначала рассмотрим первый, а затем- второй. Должен также предупредить- что такой подход загнал бы уважаемого Иль Макию в гроб от полученного инфаркта при прочтении- но другого выхода написать подобное нет, и придется перетерпеть возможные брутальные последствия. Итак- начинаю.
Русский вариант:
Политика- как политика
Фабианство, или Фабианский социализм (англ. Fabian Socialism) — философско-экономическое течение. Получило свое название от имени римского военачальника Фабия Максима Кунктатора (Медлительного), успешно пользовавшегося тактикой выжидания в борьбе с Ганнибалом. Организационное воплощение фабианство получило в форме «Фабианского общества», основанного в Лондоне в 1884 г.
Далее- определение из Русской Википедии (впрочем- оно не сильно отличается от определения в энциклопедии Брокгауза-Ефрона..)
«Общество фабианцев имеет целью воздействовать на английский народ, чтобы он пересмотрел свою политическую конституцию в демократическом направлении и организовал своё производство социалистическим способом так, чтобы материальная жизнь стала совершенно независимой от частного капитала. …Общество фабианцев состоит из социалистов. Оно стремится к новой организации общества посредством эмансипации земли и промышленного капитала от личной и классовой собственности и посредством передачи их в руки общества в видах всеобщего блага». «Report on Fabian Policy» 1896 г. Фабианцы полагали, что преобразование капитализма в социалистическое общество должно происходить постепенно, медленно, в результате постепенных институциональных преобразований. Местопребывание Общества — Лондон, отделения — в других городах Англии. Численно общество было очень не велико – число членов в 1899 году не превышало 3000 человек с учетом периферийных отделений. (примерно такая численность сохраняется и до сих пор). Общество и не стремится особенно увеличивать это число, ставя весьма строгие требования для принятия в свою среду (либо единогласное решение исполнительного комитета, состоящего из 15 членов, либо принятие большинством 4/5 голосов общего собрания). Короче- все просто, ясно и понятно. С точки зрения – обычные либеральные болтуны, частично воспринимающие идеи Маркса и Лассаля, сытые книжные черви-буржуа, «Либеральное болото»- как в дальнейшем называли их радикальные социалисты.
Британский вариант.
Политика- как заговор (девиз Фабианского общества, вроде как предложенный Уэллсом)
Вот тут наступает некий диссонанс… После привычных- читай предыдущих текстов, следует несколько другое- уточненные определения и ссылки на параллельные интересы..Итак:
Фабиан социализм
Идеология Фабианского общества, использующая стратегию "войны на истощении". В их намерениях добиться построения социалистического государства. Особенности пропаганды отличают отличают этот вид социализма от тех видов, которые предполагают прямые революционные действия.. (далее прилагается список литературы для изучения тактики – ее море, но основной «ключ поиска»- «Тактика партизанской войны»)…..
Фабиан общество Британская социалистическая организация, целью которой является продвижение принципов социализма через постепенные и реформистские, а не революционные преобразования. Оно является самым известным из-за его первоначальный новаторской работы начиная с конца 19-го века и продолжается до первой мировой войны, после которой наступил период реформ общества, периодически продолжающийся до сих пор с целью коррекции тактики всвязи с изменяющимися мировыми обстоятельствами. В Обществе заложены основы Лейбористской партии , и впоследствии повлияли на политику государств, выходящих из деколонизации из Британской империи , особенно в Индии. Сегодня Общество функционирует главным образом в качестве мозгового центра и является одним из 15 социалистических обществ связаны с лейбористской партии. Похожие обществах существуют в Австралии ( Австралийская Fabian Society ), Канаде (Дуглас-Coldwell фонд ) и в Новой Зеландии.
Для продвижения экономических идей Фабианского Общества четыре фабианца- Беатриса и Сидней Вебб , Грэм Уоллас и Джордж Бернард Шоу основали Лондонскую школу экономики и политических наук.

То есть прямые ссылки, а также дополнительные материалы по теме строго определяют направление этого «Мозгового Центра»- которым, собственно, Фабианское Общество и является:
1. Политический терроризм
2. Экономический терроризм
3. Создание зон гуманитарного влияния- т.к. культурный терроризм
4. Разрушение морали за счет развития анти-клерикальных движений
5. Разрушение семьи за счет создания обществ «защиты прав женщин» и защите прав меньшинств (Бернард Шоу был малость не традиционной ориентации…)
Ну и остального подобного – впрочем, читателям достаточно знакомого по современной практике. Все это- в «Конфетной обертке» прав рабочего класса …
Естественно- банковский капитал тоже рассматривался- и довольно в интересной форме..Но об этом- далее.
Вот краткое описание того, куда вступил Уэллс. Для понимания сути дальнейших событий.
Продолжение следует.
Отредактировано: бульдозер - 18 июн 2013 11:57:10
|
|
бульдозер ( Практикант ) |
| 18 июн 2013 13:21:22 |
Тред №582129
новая дискуссия Дискуссия 233
новая дискуссия Дискуссия 233
Ядерные миры Герберта Уэллса и «Новый Британский социализм».
Фабианское общество, его происхождение, идеи, развитие и роль в современном мире.
«Миром по праву владеют большие и сильные страны, а маленьким лучше не вылезать из своих границ, иначе их просто раздавят» Б. Шоу.
Б. Шоу впервые познакомился с Уэллсом 5 января 1895 г. в театре «Сент-Джеймс» после премьеры спектакля Генри Джеймса «Гай Домвилль», и после публикации романа «Машина времени» представил Уэллса супругам Вебб.
Личности эти весьма примечательные, их общественно- политическая деятельность, такая как роль в создании Фабианского Общества и Лондонской школы экономики и политических наук, подготовка кадров в этих структурах определяло (в плане либеральной части политики) политику Британии в течении почти всего 20 века, ну а идеи Уэллса, являющегося их последователем в плане радикализации этой политики – определяют во многом ее и сейчас. Первым директором ЛШЭ был Уильям Хьюинс, а с 1903 по 1908 годы её возглавил профессор

сэр Гэлфорд Маккиндер(1867-1947) - один из британских отцов основателей геополитики. Поэтому представлю их читателям.
Вебб, Сидней Джеймс
Его будущая жена Беатрис Поттер так охарактеризовала его: «Сидней Вебб, социалист….. Замечательный маленький человечек с огромной головой на очень маленьком теле, ширины лба вполне достаточно, чтобы объяснить характер его энциклопедических его знаний, еврейский нос, выпуклые глаза и рот, черные волосы, очки и самое буржуазное черное пальто со следами износа.» Короче- еврей британского происхождения. Сидней Уэбб был министром торговли в первом лейбористском правительстве (1924 г.), министром колоний и доминионов во втором лейбористском правительстве (1929-1931г.). В 1929 г. он стал лордом Пассфильдом




Беатрис Поттер, родилась 2 января 1858 года, в графстве Глостершир . Она была одной из трёх дочерей Ричарда Поттера - богатого железнодорожного магната, серьёзно увлекавшегося оккультизмом и магией. Считается, что именно с ним связано появление «из ниоткуда» оккультного романа для детей и юношества «Гарри Поттер». Её сестра Тереза вышла замуж за сэра Альфреда Криппса из лейбористского правительства Рамзея Макдональда, а третья сестра, Джорджина, - за банкира Дэниела Мейнерзагена, из рода давнишних партнёров «Ост-Индской компании». В 1882 году Беатрис влюбилась в одного из ведущих политиков Великобритании, Джозефа Чемберлена – одного из самых успешных и влиятельных политиков викторианской Англии, возглавшего радикальное крыло правящей либеральной партии, отца Невила Чемберлена. Отношения закончились в 1886 году, но уровень изначальных политических связей определился именно в то время. Так что брак супругов Веббов был ничем иным как мезальянсом талантливого еврея и «девушки с испорченной моралью» (как считалось еще в позднем Викторианском обществе), но обладающей большими политическими связями.
– одного из самых успешных и влиятельных политиков викторианской Англии, возглавшего радикальное крыло правящей либеральной партии, отца Невила Чемберлена. Отношения закончились в 1886 году, но уровень изначальных политических связей определился именно в то время. Так что брак супругов Веббов был ничем иным как мезальянсом талантливого еврея и «девушки с испорченной моралью» (как считалось еще в позднем Викторианском обществе), но обладающей большими политическими связями.
Как писал профессор Лондонского университета Фридрих Август фон Хайек: «Оба Уэбба, как и их друг Бернард Шоу, стояли особняком от (основной массы фабианцев). Они были настроены вызывающе империалистически. Независимость малых народов может что-то означать для индивидуалиста-либерала, но для таких коллективистов, как они, она не значила ровным счётом ничего». Именно благодаря супругам Вебб в начале 1900-х Фабианское Общество выступает с идеями научной планировки общества (евгеники) и поддержанием путем стерилизации расово неприспособленной части населения. Опыты в этом плане вполне себе производились в Австралии, что вызвало достаточно сильную критику фабианских идей. «Остров доктора Моро» Уэллса имеет прямое отношение к этим событиям. Суть его- отнюдь не в попытке показать гибридизацию неких организмов и превращение их в человекоподобных, а по-сути в прямой расистской теории и попыткой доказать невозможность получения представителей «полноценной расы» из меж- этнических связей. А конкретизируя- аборигенов Австралии и белых переселенцев. Тема очень широко муссировалась в Британском Парламенте в начале 20 века. Это отражается и в происхождении «Закона о метисах», и его последующей реализации в Австралии. В результате его действия дети насильственно отбирались из семей родителей разного расового происхождения, так как считалось, что британский колониальный режим может "защитить" детей от их родителей- аборигенов. (Примерно в таком плане нужно рассматривать и остальные художественные произведения Уэллса. В каждом из них имеется политическая подоплека, и не всегда такая, какая видна на первый взгляд. Разглядеть подоплеку весьма просто- если знать настроение британского общества и политические дебаты в конкретном времени).
Уэббы написали книгу «Четыре столпа социалистического дома»( «The Four Pillars of the House of Socialism») в котором изложили чёткую программу насаждения будущего международного социализма при власти Единого мирового правительства. Для этого требовалось разрушить «систему производства товаров и услуг, основанную на конкуренции, и ввести неограниченное налогообложение, создать огромное государство всеобщего благосостояния, без права частной собственности, и Единое мировое правительство». То есть превратить общество в управляемое миской похлебки стадо.Но в целом стратегия Общества была раскрыта именно Уэллсом, в частности : 1. Фабианское Общество признает основной принцип Марксизма: уничтожение частной собственности, в данном случае, права на владение землей. Следовательно, оно действует заодно с не-насильственной ветвью Марксизма, принимая не-насильственный путь терпеливого постепенного осуществления социальных преобразований к тотальному правительству. 2. Власть будет предоставлена, главным образом, небольшой группе Англичан, основавших Фабианский Социализм, чтобы обеспечить развивающейся концепции Социализма систему идей для превращения революционного Социализма в Административный Социализм. 3. Социализм перестанет быть открытой революцией и превратится в заговор.
«Мы знаем, что никто не захватывает власть с намерением ее сдать. Власть — не средство; это — цель. Диктатуру не устанавливают, чтобы охранять революцию; революцию совершают, чтобы установить диктатуру.» писал позже член Фабианского общества Оруэлл. Впрочем – ненасильственные метода преобразований мира касались только и исключительно основной части Британской Империи. В 1905 г. Фабианское Общество приняло у себя сторонников насильственного метода прихода марксистов к власти – а именно русских большевиков с целью координации действий в период Русской революции. Для членов Фабианского Общества основная цель этой встречи состояла в том, чтобы ссудить Большевикам деньги на революцию 1905 г., а также помочь в обеспечении революционеров оружием. На этой встрече присутствовал тогда еще очень молодой еще один член Фабианского Общества- Джон Мейнард Кейнс ….Кейнс внес в политическую теорию важный вклад, связанный с уроками, которые либерализм и традиционный капитализм пытались извлечь из экономических кризисов, отказавшись от методов Фабианцев раннего периода (Но отнюдь не членства в Фабианском Обществе!). Учение Кейнса знаменует собой переход от частного капитализма и радикального (laissez faire) либерализма к государственно регулируемому капитализму, то есть к капитализму с социально-демократическими чертами, который отстаивает социальная демократия. Но это произошло много позже....
И вот именно по рекомендации супругов Уэллс в 1903 году был принят в члены Фабианского общества. Однако- примерно лет через 6-5 он поссорился с основателями общества, выдвигая собственную идею переустройства мира путем просвещения масс народа «интеллектуальным меньшинством» и выступая против традиционного брака – за идеал свободной любви. Однако эти идеи не нашли последователей в Англии, попытки Уэллса быть избранным в парламент на этой волне провалились. Не мудрено- Британия в те годы оставалась еще «страной строгих правил». Но – вполне пригодилось через 100 лет. Ибо приняты были интересантами Фабианского процесса на вооружение.
Продолжение следует.
Фабианское общество, его происхождение, идеи, развитие и роль в современном мире.
«Миром по праву владеют большие и сильные страны, а маленьким лучше не вылезать из своих границ, иначе их просто раздавят» Б. Шоу.
Б. Шоу впервые познакомился с Уэллсом 5 января 1895 г. в театре «Сент-Джеймс» после премьеры спектакля Генри Джеймса «Гай Домвилль», и после публикации романа «Машина времени» представил Уэллса супругам Вебб.
Личности эти весьма примечательные, их общественно- политическая деятельность, такая как роль в создании Фабианского Общества и Лондонской школы экономики и политических наук, подготовка кадров в этих структурах определяло (в плане либеральной части политики) политику Британии в течении почти всего 20 века, ну а идеи Уэллса, являющегося их последователем в плане радикализации этой политики – определяют во многом ее и сейчас. Первым директором ЛШЭ был Уильям Хьюинс, а с 1903 по 1908 годы её возглавил профессор

сэр Гэлфорд Маккиндер(1867-1947) - один из британских отцов основателей геополитики. Поэтому представлю их читателям.
Вебб, Сидней Джеймс
Его будущая жена Беатрис Поттер так охарактеризовала его: «Сидней Вебб, социалист….. Замечательный маленький человечек с огромной головой на очень маленьком теле, ширины лба вполне достаточно, чтобы объяснить характер его энциклопедических его знаний, еврейский нос, выпуклые глаза и рот, черные волосы, очки и самое буржуазное черное пальто со следами износа.» Короче- еврей британского происхождения. Сидней Уэбб был министром торговли в первом лейбористском правительстве (1924 г.), министром колоний и доминионов во втором лейбористском правительстве (1929-1931г.). В 1929 г. он стал лордом Пассфильдом




Беатрис Поттер, родилась 2 января 1858 года, в графстве Глостершир . Она была одной из трёх дочерей Ричарда Поттера - богатого железнодорожного магната, серьёзно увлекавшегося оккультизмом и магией. Считается, что именно с ним связано появление «из ниоткуда» оккультного романа для детей и юношества «Гарри Поттер». Её сестра Тереза вышла замуж за сэра Альфреда Криппса из лейбористского правительства Рамзея Макдональда, а третья сестра, Джорджина, - за банкира Дэниела Мейнерзагена, из рода давнишних партнёров «Ост-Индской компании». В 1882 году Беатрис влюбилась в одного из ведущих политиков Великобритании, Джозефа Чемберлена
 – одного из самых успешных и влиятельных политиков викторианской Англии, возглавшего радикальное крыло правящей либеральной партии, отца Невила Чемберлена. Отношения закончились в 1886 году, но уровень изначальных политических связей определился именно в то время. Так что брак супругов Веббов был ничем иным как мезальянсом талантливого еврея и «девушки с испорченной моралью» (как считалось еще в позднем Викторианском обществе), но обладающей большими политическими связями.
– одного из самых успешных и влиятельных политиков викторианской Англии, возглавшего радикальное крыло правящей либеральной партии, отца Невила Чемберлена. Отношения закончились в 1886 году, но уровень изначальных политических связей определился именно в то время. Так что брак супругов Веббов был ничем иным как мезальянсом талантливого еврея и «девушки с испорченной моралью» (как считалось еще в позднем Викторианском обществе), но обладающей большими политическими связями.Как писал профессор Лондонского университета Фридрих Август фон Хайек: «Оба Уэбба, как и их друг Бернард Шоу, стояли особняком от (основной массы фабианцев). Они были настроены вызывающе империалистически. Независимость малых народов может что-то означать для индивидуалиста-либерала, но для таких коллективистов, как они, она не значила ровным счётом ничего». Именно благодаря супругам Вебб в начале 1900-х Фабианское Общество выступает с идеями научной планировки общества (евгеники) и поддержанием путем стерилизации расово неприспособленной части населения. Опыты в этом плане вполне себе производились в Австралии, что вызвало достаточно сильную критику фабианских идей. «Остров доктора Моро» Уэллса имеет прямое отношение к этим событиям. Суть его- отнюдь не в попытке показать гибридизацию неких организмов и превращение их в человекоподобных, а по-сути в прямой расистской теории и попыткой доказать невозможность получения представителей «полноценной расы» из меж- этнических связей. А конкретизируя- аборигенов Австралии и белых переселенцев. Тема очень широко муссировалась в Британском Парламенте в начале 20 века. Это отражается и в происхождении «Закона о метисах», и его последующей реализации в Австралии. В результате его действия дети насильственно отбирались из семей родителей разного расового происхождения, так как считалось, что британский колониальный режим может "защитить" детей от их родителей- аборигенов. (Примерно в таком плане нужно рассматривать и остальные художественные произведения Уэллса. В каждом из них имеется политическая подоплека, и не всегда такая, какая видна на первый взгляд. Разглядеть подоплеку весьма просто- если знать настроение британского общества и политические дебаты в конкретном времени).
Уэббы написали книгу «Четыре столпа социалистического дома»( «The Four Pillars of the House of Socialism») в котором изложили чёткую программу насаждения будущего международного социализма при власти Единого мирового правительства. Для этого требовалось разрушить «систему производства товаров и услуг, основанную на конкуренции, и ввести неограниченное налогообложение, создать огромное государство всеобщего благосостояния, без права частной собственности, и Единое мировое правительство». То есть превратить общество в управляемое миской похлебки стадо.Но в целом стратегия Общества была раскрыта именно Уэллсом, в частности : 1. Фабианское Общество признает основной принцип Марксизма: уничтожение частной собственности, в данном случае, права на владение землей. Следовательно, оно действует заодно с не-насильственной ветвью Марксизма, принимая не-насильственный путь терпеливого постепенного осуществления социальных преобразований к тотальному правительству. 2. Власть будет предоставлена, главным образом, небольшой группе Англичан, основавших Фабианский Социализм, чтобы обеспечить развивающейся концепции Социализма систему идей для превращения революционного Социализма в Административный Социализм. 3. Социализм перестанет быть открытой революцией и превратится в заговор.
«Мы знаем, что никто не захватывает власть с намерением ее сдать. Власть — не средство; это — цель. Диктатуру не устанавливают, чтобы охранять революцию; революцию совершают, чтобы установить диктатуру.» писал позже член Фабианского общества Оруэлл. Впрочем – ненасильственные метода преобразований мира касались только и исключительно основной части Британской Империи. В 1905 г. Фабианское Общество приняло у себя сторонников насильственного метода прихода марксистов к власти – а именно русских большевиков с целью координации действий в период Русской революции. Для членов Фабианского Общества основная цель этой встречи состояла в том, чтобы ссудить Большевикам деньги на революцию 1905 г., а также помочь в обеспечении революционеров оружием. На этой встрече присутствовал тогда еще очень молодой еще один член Фабианского Общества- Джон Мейнард Кейнс ….Кейнс внес в политическую теорию важный вклад, связанный с уроками, которые либерализм и традиционный капитализм пытались извлечь из экономических кризисов, отказавшись от методов Фабианцев раннего периода (Но отнюдь не членства в Фабианском Обществе!). Учение Кейнса знаменует собой переход от частного капитализма и радикального (laissez faire) либерализма к государственно регулируемому капитализму, то есть к капитализму с социально-демократическими чертами, который отстаивает социальная демократия. Но это произошло много позже....
И вот именно по рекомендации супругов Уэллс в 1903 году был принят в члены Фабианского общества. Однако- примерно лет через 6-5 он поссорился с основателями общества, выдвигая собственную идею переустройства мира путем просвещения масс народа «интеллектуальным меньшинством» и выступая против традиционного брака – за идеал свободной любви. Однако эти идеи не нашли последователей в Англии, попытки Уэллса быть избранным в парламент на этой волне провалились. Не мудрено- Британия в те годы оставалась еще «страной строгих правил». Но – вполне пригодилось через 100 лет. Ибо приняты были интересантами Фабианского процесса на вооружение.
Продолжение следует.
Отредактировано: ахмадинежад - 21 июн 2013 20:07:46
|
|
MozG_c10240 ( Слушатель ) |
| 19 июн 2013 15:44:45 |
Тред №582654
новая дискуссия Дискуссия 218
новая дискуссия Дискуссия 218
Господа коллеги.
видели ли Вы что гугл переводчик переводит словосочетание "глобальная авантюра" как = Wiki
это юмор такой или???
видели ли Вы что гугл переводчик переводит словосочетание "глобальная авантюра" как = Wiki
это юмор такой или???
|
|
ахмадинежад ( Слушатель ) |
| 20 июн 2013 13:33:55 |
Тред №583105
новая дискуссия Дискуссия 170
новая дискуссия Дискуссия 170
к сожалению, а я как обычно с ...
ЮНЕСКО: объектам Всемирного наследия в Сирии грозит уничтожение

Шесть исторических памятников на территории Сирии в четверг добавлены в список объектов Всемирного наследия, которым грозит уничтожение, говорится в заявлении ЮНЕСКО
В список были добавлены исторические части городов Дамаск, Алеппо и Босра, археологические памятники Пальмиры, а также крепость Крак де Шевалье и цитадель Салах ад-Дина.
В Сирии находится множество исторических памятников, а столица страны Дамаск является одним из самых древних городов на Земле, передает "Интерфакс".
Представители ЮНЕСКО ранее неоднократно призывали стороны сирийского конфликта воздержаться от боевых действия близ исторических памятников страны.
это тоже входит в традиционные ценности, кои надо разрушить
ЮНЕСКО: объектам Всемирного наследия в Сирии грозит уничтожение

Шесть исторических памятников на территории Сирии в четверг добавлены в список объектов Всемирного наследия, которым грозит уничтожение, говорится в заявлении ЮНЕСКО
В список были добавлены исторические части городов Дамаск, Алеппо и Босра, археологические памятники Пальмиры, а также крепость Крак де Шевалье и цитадель Салах ад-Дина.
В Сирии находится множество исторических памятников, а столица страны Дамаск является одним из самых древних городов на Земле, передает "Интерфакс".
Представители ЮНЕСКО ранее неоднократно призывали стороны сирийского конфликта воздержаться от боевых действия близ исторических памятников страны.
это тоже входит в традиционные ценности, кои надо разрушить
|
|
Удаленный пользователь |
| 20 июн 2013 16:35:06 |
Тред №583172
новая дискуссия Дискуссия 102
новая дискуссия Дискуссия 102
прочитал в одном ЖЖ необычный взгляд на историю России последних двух веков
по мнению автора в 1991 были перезаключены договоры с "крупными акционерами"
Его версия согласуется с "Письма к русской нации". 1911 г Михаил Осипович Меньшиков, как говорится не прошло и 100 лет
http://masterdl.live…49088.html
Краткие выводы касательно "1/6 части суши" по 19-20 векам.
1. Территория империи управлялась извне посаженными на трон "семьями". Раздача "слонов" осуществлялась по принципу: "кто больше дал, тому и грабить подведомственный народ". По сути, "семьи" давали ясак иноземцам на грабёж. Насилие в форме "государственности" - средство удержания населения от восстаний или бегства.
2. При разделе награбленного/захваченного вначале удовлетворялись потребности инородцев, затем - аборигенов (часто ошибочно подводимых под категорию "русские"). "Гои" - чуть ближе, но всё равно не точно! У нас есть "греки" и "армяне" и другие. Они также хорошо вписались в "избранные народы".
3. Соглашения о разделе продукции или иные генеральные соглашения, подразумевающие участие иноземного капитала в экономике "империи" (по сути огромной плохо управляемой колонии) действовали несмотря на смены царских особ ("Александр 3" на "Николай 2"), правительств (убийство Столыпина) и даже "общественно-экономических формаций" (перевороты 1917 года, 1937, 1941, 1953, 1991 и т.п.). Например, вся прибрежная зона Белого моря Архангельской области (от Соловков почти до Андермы) со всеми находящимися на ней лесами и минеральными ресурсами* до сих пор находится в залоге у банка Англии за обеспечительный кредит (800.000 фунтов стерл.), выданный в 1918 году на выпуск "твердого рубля" Северной республики. Между прочим, герб и флаг у нынешней РФ - взяты оттуда же!
*) Ответ можете спросить у геологов. Почему в НАО (за границей этого участка) нефть есть и добывается, а внутри него - нет! И какие именно "запасы" Путин рассекретил и для кого именно в этом году...
4. Грабительское использование минерально-сырьевой базы (с "бесплатным" населением впридачу) не прекращалось более, чем на неделю. Исключения: между тем, как в Ленина стреляли "соратники" (за заключение им в августе 1918** года подковёрного соглашения о доплате Германии к обязательствам Брест-Литовска) и датой передачи документов по Аляске (на любом языке это называется: "сменил крышу"), а также между датами 22 июня (ИВС: "Ленин нам оставил такие наследство...а мы всё просрали") и 3 июля 1941 года (окончательный расчет Наркомата Внешней Торговли по кредитам начиная от 1935 года с Германией) - опять такая же смена "крыши", причем в том же направлении "Германия -> США".
В годы ВМВ есть многочисленные свидетельства, когда стратегическое сырье из СССР продавалось, несмотря на острую нехватку внутри страны, как союзникам, так и противнику. Причем, из добытого в "северных кладовых" урана, вероятнее всего, были изготовлены ядерные устройства, которые испытывались в 1944-1945 годах на территории Германии и изготовлена одна из сброшенных американцами бомб на Японию (Хиросиму).
**) Кто не знает, правительство Ленина первые полгода 1918 года было на полном довольствии правительства Германии. С июля 1918 года планировалось отказаться от оккупационной рейхсмарки (в два раза дешевле обычной), действовавшей на территории оккупированных территорий российской империи, и ввести на всей территории РСФСР (вместе с Конституцией) единственное платежное средство рейхсмарку, выпускаемую банком Германии. Но удачно проведенный британскими спецслужбами при участии недовольных "чекистов" переворот в июле 1918 года смешал все карты.
5. Мировая война 1938-1945 годов дала возможность конкурирующим группировкам в оккупационной власти (место базирования - Кремль, Москва) существенно изменить своё положение по отношению к международным финансам, внутренним ресурсам, товарным рынкам - по сути, шла гражданская война, где народ массово уничтожаемый на фронтах, был лишь фоном ("смазкой") для решения циничных и сугубо личных задач отдельных фигур, единственно верный путь для которых - через трибунал, на виселицу.
6. Факт сдачи советского народа администрации Рузвельта (именно так) в аренду сроком на четыре года (не менее 10 млн штыков, 15 тысяч среднесуточных потерь) - не нов для истории империи. Где смотреть "как" и "что"? В плане достижения мирового господства, подписанного Рузвельтом в 1940 году.
Цари ("московиты") баловались этим еще со времен Ивана Четвёртого (ошибочно называемого "Грозным" - по прозвищу деда), давшего внешней политике хорошо различимый импульс продажности с европейским размахом. Затем были и Петр Первый, и Павел Первый, а уж Александр Первый со своим "европейским походом" (с задним числом дописанным "оборонительным периодом" благодаря обильным вливаниям банкирской семьи Ротшильдов) - лучший образец! Для тех, кто еще не понял - во всех случаях не только управление и финансирование "походов" было извне, но еще и генералы были наёмные (иноземцы), чтобы местные вояки случайно "не туда" не пошли.
---
Вопрос к тем, кто очень хочет изучать исправленную историю с элементами (вкраплениями) правды. Так пойдет? Причем, это самый "мягкий" вариант правды.
по мнению автора в 1991 были перезаключены договоры с "крупными акционерами"
Его версия согласуется с "Письма к русской нации". 1911 г Михаил Осипович Меньшиков, как говорится не прошло и 100 лет
http://masterdl.live…49088.html
Краткие выводы касательно "1/6 части суши" по 19-20 векам.
1. Территория империи управлялась извне посаженными на трон "семьями". Раздача "слонов" осуществлялась по принципу: "кто больше дал, тому и грабить подведомственный народ". По сути, "семьи" давали ясак иноземцам на грабёж. Насилие в форме "государственности" - средство удержания населения от восстаний или бегства.
2. При разделе награбленного/захваченного вначале удовлетворялись потребности инородцев, затем - аборигенов (часто ошибочно подводимых под категорию "русские"). "Гои" - чуть ближе, но всё равно не точно! У нас есть "греки" и "армяне" и другие. Они также хорошо вписались в "избранные народы".
3. Соглашения о разделе продукции или иные генеральные соглашения, подразумевающие участие иноземного капитала в экономике "империи" (по сути огромной плохо управляемой колонии) действовали несмотря на смены царских особ ("Александр 3" на "Николай 2"), правительств (убийство Столыпина) и даже "общественно-экономических формаций" (перевороты 1917 года, 1937, 1941, 1953, 1991 и т.п.). Например, вся прибрежная зона Белого моря Архангельской области (от Соловков почти до Андермы) со всеми находящимися на ней лесами и минеральными ресурсами* до сих пор находится в залоге у банка Англии за обеспечительный кредит (800.000 фунтов стерл.), выданный в 1918 году на выпуск "твердого рубля" Северной республики. Между прочим, герб и флаг у нынешней РФ - взяты оттуда же!
*) Ответ можете спросить у геологов. Почему в НАО (за границей этого участка) нефть есть и добывается, а внутри него - нет! И какие именно "запасы" Путин рассекретил и для кого именно в этом году...
4. Грабительское использование минерально-сырьевой базы (с "бесплатным" населением впридачу) не прекращалось более, чем на неделю. Исключения: между тем, как в Ленина стреляли "соратники" (за заключение им в августе 1918** года подковёрного соглашения о доплате Германии к обязательствам Брест-Литовска) и датой передачи документов по Аляске (на любом языке это называется: "сменил крышу"), а также между датами 22 июня (ИВС: "Ленин нам оставил такие наследство...а мы всё просрали") и 3 июля 1941 года (окончательный расчет Наркомата Внешней Торговли по кредитам начиная от 1935 года с Германией) - опять такая же смена "крыши", причем в том же направлении "Германия -> США".
В годы ВМВ есть многочисленные свидетельства, когда стратегическое сырье из СССР продавалось, несмотря на острую нехватку внутри страны, как союзникам, так и противнику. Причем, из добытого в "северных кладовых" урана, вероятнее всего, были изготовлены ядерные устройства, которые испытывались в 1944-1945 годах на территории Германии и изготовлена одна из сброшенных американцами бомб на Японию (Хиросиму).
**) Кто не знает, правительство Ленина первые полгода 1918 года было на полном довольствии правительства Германии. С июля 1918 года планировалось отказаться от оккупационной рейхсмарки (в два раза дешевле обычной), действовавшей на территории оккупированных территорий российской империи, и ввести на всей территории РСФСР (вместе с Конституцией) единственное платежное средство рейхсмарку, выпускаемую банком Германии. Но удачно проведенный британскими спецслужбами при участии недовольных "чекистов" переворот в июле 1918 года смешал все карты.
5. Мировая война 1938-1945 годов дала возможность конкурирующим группировкам в оккупационной власти (место базирования - Кремль, Москва) существенно изменить своё положение по отношению к международным финансам, внутренним ресурсам, товарным рынкам - по сути, шла гражданская война, где народ массово уничтожаемый на фронтах, был лишь фоном ("смазкой") для решения циничных и сугубо личных задач отдельных фигур, единственно верный путь для которых - через трибунал, на виселицу.
6. Факт сдачи советского народа администрации Рузвельта (именно так) в аренду сроком на четыре года (не менее 10 млн штыков, 15 тысяч среднесуточных потерь) - не нов для истории империи. Где смотреть "как" и "что"? В плане достижения мирового господства, подписанного Рузвельтом в 1940 году.
Цари ("московиты") баловались этим еще со времен Ивана Четвёртого (ошибочно называемого "Грозным" - по прозвищу деда), давшего внешней политике хорошо различимый импульс продажности с европейским размахом. Затем были и Петр Первый, и Павел Первый, а уж Александр Первый со своим "европейским походом" (с задним числом дописанным "оборонительным периодом" благодаря обильным вливаниям банкирской семьи Ротшильдов) - лучший образец! Для тех, кто еще не понял - во всех случаях не только управление и финансирование "походов" было извне, но еще и генералы были наёмные (иноземцы), чтобы местные вояки случайно "не туда" не пошли.
---
Вопрос к тем, кто очень хочет изучать исправленную историю с элементами (вкраплениями) правды. Так пойдет? Причем, это самый "мягкий" вариант правды.
Отредактировано: 7stepan7 - 01 янв 1970
|
|
бульдозер ( Практикант ) |
| 20 июн 2013 16:44:32 |
Тред №583176
новая дискуссия Дискуссия 180
новая дискуссия Дискуссия 180
Вот здесь http://www.youtube.c…vz5EKlI3fQ отрывок на полторы минуты из теле-интервью бывшего министра иностранных дел Франции Ролана Дюма.
Он рассказывает, как ещё за два года до начала событий в Сирии ездил по совсем другим делам в Англию (причём подчёркивает: "Не в США, заметьте, а в Англию..."). И вот ему там его "друзья из числа высокопоставленных лиц" сказали, что готовят "вторжение повстанцев в Сирии" (вот тут-то Дюма и подчёркнул, что этот разговор у него состоялся не в США, а в Лондоне), и спросили, готов ли он поспособствовать (Дюма говорит: "Я ответил, что я француз, меня это не касается"). Дальше Дюма говорит, что всё дело в анти-израильской позиции сирийского режима; что когда-то давно израильский премьер-министр (какой именно -- не уточнил) ему поведал: они попытаются договориться со всеми своими соседями, а с кем им договориться не удастся -- тех они уберут. Завершая свою мысль, Дюма говорит, что судить о таком заблаговременном планировании "повстанческого" движения можно не обязательно плохо, но знать об этом планировании для правильного суждения об исторических концепциях надо.
Автор- Александр Багаев.
http://bagaev-alex.l…23651.html
Он рассказывает, как ещё за два года до начала событий в Сирии ездил по совсем другим делам в Англию (причём подчёркивает: "Не в США, заметьте, а в Англию..."). И вот ему там его "друзья из числа высокопоставленных лиц" сказали, что готовят "вторжение повстанцев в Сирии" (вот тут-то Дюма и подчёркнул, что этот разговор у него состоялся не в США, а в Лондоне), и спросили, готов ли он поспособствовать (Дюма говорит: "Я ответил, что я француз, меня это не касается"). Дальше Дюма говорит, что всё дело в анти-израильской позиции сирийского режима; что когда-то давно израильский премьер-министр (какой именно -- не уточнил) ему поведал: они попытаются договориться со всеми своими соседями, а с кем им договориться не удастся -- тех они уберут. Завершая свою мысль, Дюма говорит, что судить о таком заблаговременном планировании "повстанческого" движения можно не обязательно плохо, но знать об этом планировании для правильного суждения об исторических концепциях надо.
Автор- Александр Багаев.
http://bagaev-alex.l…23651.html
|
|
Вика ( Слушатель ) |
| 20 июн 2013 23:43:33 |
Тред №583337
новая дискуссия Дискуссия 160
Но ведь я с этой структорой именно на этой ветке познакомилась. И успела к ней привыкнуть. Может, и вы просто привыкли, и потому вам уже скучно
новая дискуссия Дискуссия 160
Цитата: oldmen
Не... не пойдеть
Скучное оно... и главное, они упорно все друг у дружки структуру передирают
Но ведь я с этой структорой именно на этой ветке познакомилась. И успела к ней привыкнуть. Может, и вы просто привыкли, и потому вам уже скучно

|
|
Удаленный пользователь |
| 21 июн 2013 12:45:05 |
Тред №583574
новая дискуссия Дискуссия 124
новая дискуссия Дискуссия 124
Вика, какой к черту Китай, тут со своей бы историей разобраться. Мой ответ= не знаю
много думал,,,, кхе-кхе
много думал как вас повеселить и вспомнил (кстати, вам надо миллион ?) Вспомнил, что автор в этом посте в коментах
http://masterdl.live…38875.html
вы мне найдите (помесячно) куда уходила (только не ищите в танковой броне - не было, проверил) продукция "Норникеля" с 1942 (первая пром. плавка) я вам сразу Нобелевскую премию дам.
Ну и предлагаю вам утереть нос писакам-фантазерам, возьмем только этот вопрос и докажем,вранье автора. Согласны?
Я со своей стороны спрошу об этом на военной ветке
Удачи
Цитата: oldmen
Не... не пойдеть
Скучное оно..
много думал,,,, кхе-кхе
много думал как вас повеселить и вспомнил (кстати, вам надо миллион ?) Вспомнил, что автор в этом посте в коментах
http://masterdl.live…38875.html
вы мне найдите (помесячно) куда уходила (только не ищите в танковой броне - не было, проверил) продукция "Норникеля" с 1942 (первая пром. плавка) я вам сразу Нобелевскую премию дам.
Ну и предлагаю вам утереть нос писакам-фантазерам, возьмем только этот вопрос и докажем,вранье автора. Согласны?
Я со своей стороны спрошу об этом на военной ветке
Удачи
Отредактировано: 7stepan7 - 01 янв 1970
|
|
бульдозер ( Практикант ) |
| 22 июн 2013 14:52:42 |
Тред №584124
новая дискуссия Дискуссия 194
новая дискуссия Дискуссия 194
При поиске материала попадается много интересного,к основной теме вроде не относящегося... Как-то мы на ветке Футюха обсуждали "воспитание элит" в закрытых британских школах. А тут- попалось,малость:
.....Родившись в семье профессора, Мейнард Кейнс был продуктом кембриджской цивилизации в самом её расцвете. В круг Кейнса входили не только философы — Джордж Эдвард Мур, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн, но и такое экзотическое порождение Кембриджа, как Блумсберийская группа (нечто среднее между литературно-художественной тусовкой, шведской семьёй и клубом свингеров. Не забываем о лесбосе и тривиальной педерастии! Единственная прятность этой группы была в том, что у британской элиты того времени были не такие лошадиные зубы,как сейчас. ). Это был круг писателей и художников, с которыми Кейнса связывала тесная дружба. Его окружала атмосфера брожения умов и пробуждение сексуальности, характерная для перехода от викторианской Англии к эпохе короля Эдуарда VII (который в тени своей матери- Королевы Виктории от безделья сам занялся практическим изучением сексуальных новшеств. В частности по его заказу изготавливалась специальная мебель для сией нехитрой процедуры, выставленная ноне в музеях.Любопытствующий народ до сих пор гадает- и как этим можно было пользоваться? Но факт- фантазии индийского храма Агры были перекрыты многократно.. Правнучка его последней любовницы, Алисы Кеппел, также стала любовницей (и потом женой) принца Уэльского — это Камилла Паркер Боулз, нынешняя жена принца Чарльза. .)



Мамик Уинстона Черчиля -Lady Randolph Churchill, которая, согласно отнюдь не придворным сплетням- знала точный способ использования вышеприведенного артефакта.
..«Что с нами станет с нашими репутациями, ведают только небеса… Прежде мы никогда так себя не вели — и удивляюсь, если подобное когда-нибудь повторится…».В 1908 г. посетителя колледжа поражало, как «откровенно мужские пары выставляли напоказ свою взаимную привязанность»...
.....Родившись в семье профессора, Мейнард Кейнс был продуктом кембриджской цивилизации в самом её расцвете. В круг Кейнса входили не только философы — Джордж Эдвард Мур, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн, но и такое экзотическое порождение Кембриджа, как Блумсберийская группа (нечто среднее между литературно-художественной тусовкой, шведской семьёй и клубом свингеров. Не забываем о лесбосе и тривиальной педерастии! Единственная прятность этой группы была в том, что у британской элиты того времени были не такие лошадиные зубы,как сейчас. ). Это был круг писателей и художников, с которыми Кейнса связывала тесная дружба. Его окружала атмосфера брожения умов и пробуждение сексуальности, характерная для перехода от викторианской Англии к эпохе короля Эдуарда VII (который в тени своей матери- Королевы Виктории от безделья сам занялся практическим изучением сексуальных новшеств. В частности по его заказу изготавливалась специальная мебель для сией нехитрой процедуры, выставленная ноне в музеях.Любопытствующий народ до сих пор гадает- и как этим можно было пользоваться? Но факт- фантазии индийского храма Агры были перекрыты многократно.. Правнучка его последней любовницы, Алисы Кеппел, также стала любовницей (и потом женой) принца Уэльского — это Камилла Паркер Боулз, нынешняя жена принца Чарльза. .)



Мамик Уинстона Черчиля -Lady Randolph Churchill, которая, согласно отнюдь не придворным сплетням- знала точный способ использования вышеприведенного артефакта.
..«Что с нами станет с нашими репутациями, ведают только небеса… Прежде мы никогда так себя не вели — и удивляюсь, если подобное когда-нибудь повторится…».В 1908 г. посетителя колледжа поражало, как «откровенно мужские пары выставляли напоказ свою взаимную привязанность»...
Отредактировано: бульдозер - 22 июн 2013 14:53:56
|
|
КиевлянинЪ ( Слушатель ) |
| 22 июн 2013 21:41:12 |
Тред №584280
новая дискуссия Дискуссия 170
новая дискуссия Дискуссия 170
Сэр Арнольд Тойнби про супругов Уэббов в своей книжке "Мои встречи", гл 9 (цитирую выборочно):
Почему же тогда Уэббы заслужили репутацию людей, лишенных человечности — «бес-чувственных», «бесчеловечных», «негуманных»? Сложившаяся о них легенда как о чете безжалостных прозекторов тонкой человеческой материи была широко распространена в то время. Такой их образ можно счесть забавным или ужасающим, но и в том, и в другом случае его достоверность принималась как само собой разумеющееся. Это суждение о Сидни и Беатрис Уэбб было поверхностным. Тому, кто применяет термин «бесчеловечный» или «бесчувственный», следует прежде проанализировать, что он под ним подразумевает. В разных контекстах эпитет может иметь разные оттенки смысла, и не все из них непременно уничижительны.
Беатрис была по-человечески нетерпелива в своем ожидании (и ожидание это возрастало у нее с возрастом) еще при своей жизни дождаться наступления социализма. В этом плане разница в темпераментах ее и Сидни, которая всегда была очевидной, проявлялась более резко, хотя никогда и не нарушала их гармонии. Она и не могла ее нарушить, так как различные аспекты их темпераментов дополняли друг друга, и это вероятно было одной из тех вещей, которые притягивали их друг к другу и удерживали вместе. Они оба были фабианцами, но Сидни был явным фабианцем, тогда как Беатрис, я смею думать, была фабианкой усилием воли, которое должно было подкрепляться интеллектуальным убеждением в противовес ее естественным чувствам. К концу жизни более импульсивный темперамент Беатрис заявил о себе, и под его давлением ее фабианство начало слабеть.
Почему же тогда Уэббы заслужили репутацию людей, лишенных человечности — «бес-чувственных», «бесчеловечных», «негуманных»? Сложившаяся о них легенда как о чете безжалостных прозекторов тонкой человеческой материи была широко распространена в то время. Такой их образ можно счесть забавным или ужасающим, но и в том, и в другом случае его достоверность принималась как само собой разумеющееся. Это суждение о Сидни и Беатрис Уэбб было поверхностным. Тому, кто применяет термин «бесчеловечный» или «бесчувственный», следует прежде проанализировать, что он под ним подразумевает. В разных контекстах эпитет может иметь разные оттенки смысла, и не все из них непременно уничижительны.
Скрытый текст
Беатрис была по-человечески нетерпелива в своем ожидании (и ожидание это возрастало у нее с возрастом) еще при своей жизни дождаться наступления социализма. В этом плане разница в темпераментах ее и Сидни, которая всегда была очевидной, проявлялась более резко, хотя никогда и не нарушала их гармонии. Она и не могла ее нарушить, так как различные аспекты их темпераментов дополняли друг друга, и это вероятно было одной из тех вещей, которые притягивали их друг к другу и удерживали вместе. Они оба были фабианцами, но Сидни был явным фабианцем, тогда как Беатрис, я смею думать, была фабианкой усилием воли, которое должно было подкрепляться интеллектуальным убеждением в противовес ее естественным чувствам. К концу жизни более импульсивный темперамент Беатрис заявил о себе, и под его давлением ее фабианство начало слабеть.
Отредактировано: КиевлянинЪ - 22 июн 2013 21:42:12
|
|
КиевлянинЪ ( Слушатель ) |
| 22 июн 2013 21:47:42 |
Тред №584288
новая дискуссия Дискуссия 194
новая дискуссия Дискуссия 194
Ну и в тему ветки и вообще -- сэр Арнольд Тойнби -- создатель Чэттэм-хауса (Королевского института международных отношений) и первый многолетний редактор ежегодника "Обзор международных отношений" про документы:
К тому времени я уже достаточно знал об официальных документах, чтобы понимать их реальную полезность в деле истинного познания и понимания. Служа во время Первой мировой войны в Министерстве иностранных дел, я имел возможность наблюдать, как составляются официальные документы, и даже сам прикладывал к этому руку. Тогда же я узнал, для чего официальные документы точно никогда не предназначались, — это для того, чтобы снабжать реальной информацией историков. Даже когда документы составляют с целью информирования, их предназначают должностным лицам и политикам; и содержащаяся в них информация — это тот минимум, который необходим для принятия решений относительно будущих действий. Поскольку официальные документы не должны быть перегружены, то они никогда не включают в себя информацию, и без того известную всем заинтересованным лицам. Вместе с тем вещи, которые общеизвестны для посвященных, могут быть неизвестны profanum vulgus, являясь, однако, при этом ключевыми моментами для понимания цели и смысла официального документа. Если не обладать знанием таких вот, не отраженных в документе, но необходимых, моментов, то документ из информации превращается в дезинформацию. Понимая это, я с тех пор всегда был настроен скептически при виде ученых, которые с таким доверием относятся к документам, словно в них содержится вся правда и ничего, кроме правды. Эти гуманитарии полагались на содержание документов столь же безоговорочно, как геолог в своих исследованиях безоговорочно полагается на полученные данные о составе, структуре и залегании горных пород. Эти гуманитарии не осознают, что ex officio официальный документ, в отличие от геологической формации, не раскрывает всего контекста событий. А этот контекст включает незафиксированные на бумаге сведения и необнародованные цели. И если историк не добавит в свое исследование эти недостающие кусочки, восстанавливающие всю картину, он рискует остаться в дураках, а также морочить голову своим читателям.
К тому времени я уже достаточно знал об официальных документах, чтобы понимать их реальную полезность в деле истинного познания и понимания. Служа во время Первой мировой войны в Министерстве иностранных дел, я имел возможность наблюдать, как составляются официальные документы, и даже сам прикладывал к этому руку. Тогда же я узнал, для чего официальные документы точно никогда не предназначались, — это для того, чтобы снабжать реальной информацией историков. Даже когда документы составляют с целью информирования, их предназначают должностным лицам и политикам; и содержащаяся в них информация — это тот минимум, который необходим для принятия решений относительно будущих действий. Поскольку официальные документы не должны быть перегружены, то они никогда не включают в себя информацию, и без того известную всем заинтересованным лицам. Вместе с тем вещи, которые общеизвестны для посвященных, могут быть неизвестны profanum vulgus, являясь, однако, при этом ключевыми моментами для понимания цели и смысла официального документа. Если не обладать знанием таких вот, не отраженных в документе, но необходимых, моментов, то документ из информации превращается в дезинформацию. Понимая это, я с тех пор всегда был настроен скептически при виде ученых, которые с таким доверием относятся к документам, словно в них содержится вся правда и ничего, кроме правды. Эти гуманитарии полагались на содержание документов столь же безоговорочно, как геолог в своих исследованиях безоговорочно полагается на полученные данные о составе, структуре и залегании горных пород. Эти гуманитарии не осознают, что ex officio официальный документ, в отличие от геологической формации, не раскрывает всего контекста событий. А этот контекст включает незафиксированные на бумаге сведения и необнародованные цели. И если историк не добавит в свое исследование эти недостающие кусочки, восстанавливающие всю картину, он рискует остаться в дураках, а также морочить голову своим читателям.
Отредактировано: КиевлянинЪ - 22 июн 2013 21:48:04
|
|
бульдозер ( Практикант ) |
| 23 июн 2013 11:18:29 |
Тред №584492
новая дискуссия Дискуссия 228
новая дискуссия Дискуссия 228
Ядерные миры Герберта Уэллса и «Новый Британский социализм».
Попутчики Уэллса 1
Прежде чем завершить повествование об Уэллсе нужно напомнить читателям еще о нескольких деятелей из среды Фабианского общества- в не меньшей степени формировавших сознание т.н. «Британских либерально- социалистических элит» начала 20 века. Если в те годы это было в значительной мере словоблудием креативной элиты- то в своем историческом развитии и с учетом изменения мировых реалий эти идеи вполне воплощаются в жизнь в начале века двадцать первого.
Итак: Бертран Рассел:


"Бертрана Рассела можно описать одним-единственным способом, а именно — сказав, что он вылитый Болванщик… Рисунок Тенниела свидетельствует чуть ли не о провидении." Норберт Винер
«Задача будущих ученых — установить, во сколько обойдется в расчете на одну голову убедить детей в том, что снег черный, и насколько дешевле убедить их в том, что он темно-серый… Хотя эта наука массовой психологии будет прилежно изучаться, ее изучение ограничится строгими рамками правящего класса. Простому народу не дадут знать, как возникают его убеждения. Когда эта техника усовершенствуется, любое правительство, контролирующее воспитание нового поколения, может держать в подчинении своих подданных, не нуждаясь в армии или полиции».
«Мало по малу, селективным размножением, врождённые различия между правящим классом и простыми людьми будут расти, пока не достигнут кардинальных отличий родов. Восстание плебеев станет настолько же невероятным, как организация восстания овец против производителя баранины».
В биографии Рассела есть один существенный момент, который историками упускается совершенно, однако в контексте этой статьи- весьма важен. Бертран Артур Уильям Рассел родился в Треллеке (Уэльс) 18 мая 1872 года в семье влиятельных либеральных аристократов. Его дед по отцовской линии, Джон Рассел дважды возглавлял правительство королевы Виктории и служил премьер-министром в 1840-х и 1860-х – то есть именно в то время, когда Марксом был написан как «Манифест Коммунистической партии» так и 1 том Капитала. То есть Рассел вырос и получил воспитание в той среде, для которой истинная суть данных произведений была не только абсолютно понятна, но понятны были и как причины, так и цели появления данных работ на белый свет. А посему- Рассел, учитывая его биографию как философа- был наиболее идейным антикоммунистом их всех возможных- естественно, если идеи коммунизма не соответствовали гегемонистическими целями БИ. Вместе с Б. Шоу и Г. Уэллсом был одним из первых членов социалистического Фабианского общества- а с учетом предыдущих фраз не сложно догадаться- какую именно интерпретацию нужно придавать слову «социализм» через фокус мировоззрения Рассела, весьма требующего к себе добавки «национал». Но- естественно- не германского варианта- а чисто Британского, замешанного еще и на вере предков его единомышленника Вебба. Это я написал к тому, чтобы читатель понимал- где находятся корни того процесса, который пытается смешать «Национал-социализм» Гитлера со «Сталинским социализмом». Оба- вроде бы имеющие Британский зародыш изначально- НЕ Британские. Значит- с точки идеологических последователей Рассела- одно и то же. «Волосатые уши» при таком понимании- сразу становятся заметны, произрастая с берегов Альбиона –а конкретно- из философии Рассела, лауреата Нобелевской премии 1950 года. Еще Рассел прославился как пацифист, заявляя при этом «Патриотизм — это готовность убивать и быть убитым по пошлым причинам». За подобное – все-таки в весьма и весьма патриотичной Британии он был посажен не надолго в тюрьму, причем в одну камеру с Меером-Генохом Моисеевичем Ва́ллахом. Впрочем- видимо он с ним знаком был и ранее, ибо именно этот Валлах занимался поставками оружия из Британии в Россию в период революции 1905 года.
(Летом 1905 года на острове Нарген близ Ревеля Валлах подготавливал приёмку английского парохода John Grafton, доверху наполненного оружием и динамитом. Пароход не дошёл до места назначения, так как наскочил на мель.) «В миру» этот деятель известен в дальнейшем как министр иностранных дел СССР Литвинов.
В 1948 г. Рассел он активно выступал за сохранение ядерной монополии США, требовал, чтобы СССР прекратил разработки собственного ядерного оружия и даже предлагал - в случае отказа - сбросить ядерную бомбу на Москву. "Главное оправдание той точки зрения, которой я придерживался в 1948 г., состояло в моей тогдашней уверенности, что Россия подчинится требованиям Запада", - писал он. Но очень скоро в связи с испытанием атомной бомбы в СССР в августе 1949 г. Рассел отказался от подобных предложений. Позже его неоднократно упрекали: как же он, пацифист, мог выступать с такими радикальными требованиями? "Я не пацифист... я полагаю, что некоторые войны, очень немногие, оправданы, даже необходимы, - отвечал он, но, словно пытаясь оправдаться, замечал: - Несмотря ни на что, в то время я дал такой совет. Но сделал я это мимоходом, без особой реальной надежды, что ему кто-либо последует, и вскоре сам забыл о нем". Заметим, что к концу жизни Рассел был настроен крайне антиамерикански, а СССР он, напротив, не считал державой, представляющей угрозу миру. ( Естественно- приход к власти Хрущева и его реформы, настроенные в плане догмата Британской геополитики был для Рассела весьма позитивен). Так что типаж я определил... Он,конечно- много сложнее, поэтому когда- нибудь я еще вернусь к нему- много подробнее,ибо Рассел был так сказать "Трубадуром" в отдельных аспектах политик Британии- ну а их очень много,хотя и цель- едина.
Попутчики Уэллса 1
Прежде чем завершить повествование об Уэллсе нужно напомнить читателям еще о нескольких деятелей из среды Фабианского общества- в не меньшей степени формировавших сознание т.н. «Британских либерально- социалистических элит» начала 20 века. Если в те годы это было в значительной мере словоблудием креативной элиты- то в своем историческом развитии и с учетом изменения мировых реалий эти идеи вполне воплощаются в жизнь в начале века двадцать первого.
Итак: Бертран Рассел:


"Бертрана Рассела можно описать одним-единственным способом, а именно — сказав, что он вылитый Болванщик… Рисунок Тенниела свидетельствует чуть ли не о провидении." Норберт Винер
«Задача будущих ученых — установить, во сколько обойдется в расчете на одну голову убедить детей в том, что снег черный, и насколько дешевле убедить их в том, что он темно-серый… Хотя эта наука массовой психологии будет прилежно изучаться, ее изучение ограничится строгими рамками правящего класса. Простому народу не дадут знать, как возникают его убеждения. Когда эта техника усовершенствуется, любое правительство, контролирующее воспитание нового поколения, может держать в подчинении своих подданных, не нуждаясь в армии или полиции».
«Мало по малу, селективным размножением, врождённые различия между правящим классом и простыми людьми будут расти, пока не достигнут кардинальных отличий родов. Восстание плебеев станет настолько же невероятным, как организация восстания овец против производителя баранины».
В биографии Рассела есть один существенный момент, который историками упускается совершенно, однако в контексте этой статьи- весьма важен. Бертран Артур Уильям Рассел родился в Треллеке (Уэльс) 18 мая 1872 года в семье влиятельных либеральных аристократов. Его дед по отцовской линии, Джон Рассел дважды возглавлял правительство королевы Виктории и служил премьер-министром в 1840-х и 1860-х – то есть именно в то время, когда Марксом был написан как «Манифест Коммунистической партии» так и 1 том Капитала. То есть Рассел вырос и получил воспитание в той среде, для которой истинная суть данных произведений была не только абсолютно понятна, но понятны были и как причины, так и цели появления данных работ на белый свет. А посему- Рассел, учитывая его биографию как философа- был наиболее идейным антикоммунистом их всех возможных- естественно, если идеи коммунизма не соответствовали гегемонистическими целями БИ. Вместе с Б. Шоу и Г. Уэллсом был одним из первых членов социалистического Фабианского общества- а с учетом предыдущих фраз не сложно догадаться- какую именно интерпретацию нужно придавать слову «социализм» через фокус мировоззрения Рассела, весьма требующего к себе добавки «национал». Но- естественно- не германского варианта- а чисто Британского, замешанного еще и на вере предков его единомышленника Вебба. Это я написал к тому, чтобы читатель понимал- где находятся корни того процесса, который пытается смешать «Национал-социализм» Гитлера со «Сталинским социализмом». Оба- вроде бы имеющие Британский зародыш изначально- НЕ Британские. Значит- с точки идеологических последователей Рассела- одно и то же. «Волосатые уши» при таком понимании- сразу становятся заметны, произрастая с берегов Альбиона –а конкретно- из философии Рассела, лауреата Нобелевской премии 1950 года. Еще Рассел прославился как пацифист, заявляя при этом «Патриотизм — это готовность убивать и быть убитым по пошлым причинам». За подобное – все-таки в весьма и весьма патриотичной Британии он был посажен не надолго в тюрьму, причем в одну камеру с Меером-Генохом Моисеевичем Ва́ллахом. Впрочем- видимо он с ним знаком был и ранее, ибо именно этот Валлах занимался поставками оружия из Британии в Россию в период революции 1905 года.
(Летом 1905 года на острове Нарген близ Ревеля Валлах подготавливал приёмку английского парохода John Grafton, доверху наполненного оружием и динамитом. Пароход не дошёл до места назначения, так как наскочил на мель.) «В миру» этот деятель известен в дальнейшем как министр иностранных дел СССР Литвинов.
В 1948 г. Рассел он активно выступал за сохранение ядерной монополии США, требовал, чтобы СССР прекратил разработки собственного ядерного оружия и даже предлагал - в случае отказа - сбросить ядерную бомбу на Москву. "Главное оправдание той точки зрения, которой я придерживался в 1948 г., состояло в моей тогдашней уверенности, что Россия подчинится требованиям Запада", - писал он. Но очень скоро в связи с испытанием атомной бомбы в СССР в августе 1949 г. Рассел отказался от подобных предложений. Позже его неоднократно упрекали: как же он, пацифист, мог выступать с такими радикальными требованиями? "Я не пацифист... я полагаю, что некоторые войны, очень немногие, оправданы, даже необходимы, - отвечал он, но, словно пытаясь оправдаться, замечал: - Несмотря ни на что, в то время я дал такой совет. Но сделал я это мимоходом, без особой реальной надежды, что ему кто-либо последует, и вскоре сам забыл о нем". Заметим, что к концу жизни Рассел был настроен крайне антиамерикански, а СССР он, напротив, не считал державой, представляющей угрозу миру. ( Естественно- приход к власти Хрущева и его реформы, настроенные в плане догмата Британской геополитики был для Рассела весьма позитивен). Так что типаж я определил... Он,конечно- много сложнее, поэтому когда- нибудь я еще вернусь к нему- много подробнее,ибо Рассел был так сказать "Трубадуром" в отдельных аспектах политик Британии- ну а их очень много,хотя и цель- едина.
Отредактировано: бульдозер - 23 июн 2013 13:30:10
|
|
КиевлянинЪ ( Слушатель ) |
| 23 июн 2013 12:43:40 |
Тред №584528
новая дискуссия Дискуссия 184
новая дискуссия Дискуссия 184
Ничего себе? Не знал... Хотя голодомор вон кто впервые сделал...
Османский Халифат спас народ Ирландии от умерщвления пока соседние страны наблюдали за их уничтожением
Написано 21 июня, 2013 в категории Новости, Отдел писем

Экс-президент Ирландии Мэри МакКализ, во время визита в Турцию: «Мы выстояли благодаря Османскому Халифату».
Что связывает современный Исламский мир с холодным и дождливым островом Ирландии? Как оказалось, помимо наличия современных мусульман в Ireland, эти два полюса свела жестокая политика Англии более 150 лет назад. В то время отношения абсолютной монархии к ирландцам можно охарактеризовать высказыванием самих англичан: «Овес — еда лошадей и ирландцев».
Чтобы осмыслить глобальность тех событий, вернемся в прошлое.
В 1845 году произошли события, которые окончательно вселили в сердца ирландцев ненависть к английской империи. И ненависть эта, как показало время, оказалась генетической. Середина века ознаменовалась для свободолюбивого народа настоящим испытанием. Картофель — основная, и, фактически, единственная еда ирландцев, был поражен патогенным микроорганизмом, фитофторозом. Все посевы данного плода были уничтожены на всей территории страны.
Деструктивная, зачастую варварская политика англичан привела к полному уничтожению сельскохозяйственного сектора зеленого острова, основного и единственного источника пропитания жителей Ирландии. С 1845 по 1849 год население 8 миллионного Eire сократилось до менее чем 5 миллионов. Из них более одного миллиона трагически погибло непосредственно от голода. Остальные 2 миллиона были вынуждены эмигрировать в поисках пропитания. На все попытки населения колонии выпросить земли для обработки у монархии, наталкивались на жесткое сопротивлении Лондона. В то время, территория острова принадлежала английской короне, церкви и знати.
Больше половины из обрабатываемых земель Ирландии цинично пустовали. Естественно, подобный расклад раздражал коренное население. Но «мнение скотов ирландских» мало волновало просвещенные умы обитателей Темзы. Вся «гуманитарная помощь» монархии умирающим от голода ирландцам заключалась в поставке гнилого картофеля и испорченной моркови. Современная ирландская история выдвигает версию в умышленном уничтожении коренного населения Eire английскими колонизаторами.
И именно данный трагичный для Ирландии момент связал чуждых к Исламу ирландцев с мусульманами того времени.
Османский халиф Абдул-Маджид, услышав о жестокости англичан в период жесточайшего голода, приказал снарядить помощь нуждающимся христианам Ирландии. Нужно понимать, что данное действие не несло мусульманам никакой выгоды, так как ни в экономическом, ни в политическом плане халифат не получал дивидендов. Нищая и больная Ирландия на тот момент фактически вымирала.
Первая попытка мусульман на официальном уровне была пресечена королевой Англии. Халиф передал нуждающимся Ирландии 10.000 фунтов, из которых была принята лишь 1000 ф. Отказ был мотивирован тем, что казна государства не нуждается во внешней помощи. Но так как со стороны Англии не последовало адекватных действий в отношении умирающих, то халиф подготовил и отправил тайную помощь. Были снаряжены караваны кораблей, заполненных продовольствием, одеждой и медикаментами.
В режиме строгой секретности корабли мусульман пробирались к далеким и чужим для них берегам. Опасность исходила не только от военных кораблей Англии, Франции или Испании, но так же и от флибустьеров того времени, не обремененных какими-либо обязательствами или договорами. Добравшись до берегов Ирландии, корабли следовали в Дрохеду, где и проходила раздача помощи. Данное действие далеких «варваров» восхитило ирландцев того времени. Именно по этой причине современный футбольный клуб «Droghedа» на своем гербе гордо несет символику халифата.

В заключении предоставим зарисовку того времени. В этом высказывании можно проследить жестокость и подлость целого государства по отношению к нуждающейся Ирландии:
Путешествующий по стране Томас Карлайл писал: «Никогда не видел в мире подобной нищеты... Часто меня приводило в ярость, как нищие осаждали нас, будто бродячие собаки, набрасывающиеся на падаль... При виде таких сцен человеческая жалость уходит, оставляя вместо себя каменную отчужденность и отвращение».
Но худшее ждало впереди, когда британские землевладельцы за неуплату ренты стали выселять десятки тысяч голодающих крестьян с земель. Граф Льюкан в графстве Мейо, превознесенный Альфредом, лордом Теннисоном в его «Charge of the Light Brigade», выселил из лачуг 40 000 крестьян, когда они не смогли уплатить ему ренту.
И когда картофельные поля поразила болезнь, для англичан это был шанс спасти свою честь и миллионы жизней. Но вместо этого, граф Льюкан еще более ужесточил условия жизни крестьян. Ирландский корреспондент «Лондон таймс» Сидней Годолфин Осборн назвал его действия «филантропическими», считая, что они помогали стабилизировать население. Альфред Теннисон, английский поэт, наиболее яркий выразитель викторианской эпохи, любимый поэт королевы Виктории, которая дала ему почётное звание поэта-лауреата и титул барона, сделавший его пэром Англии, не преминул сказать свое слово, заметив: «Кельты — все законченные болваны. Они живут на ужасном острове, и у их нет истории, достойной даже упоминания. Почему никто не может взорвать этот поганый остров динамитом и разметать его кусочки в разные стороны?».
Комментарии излишни.
***
Официальная хронология Великого Ирландского Картофельного Голода:
1845
Сентябрь: первые доклады о фитофторозе.
Середина октября: доклады становятся повсеместными. Премьеру Р. Пилю (Peele) становится ясно, что надо действовать.
15 октября: Пиль решает добиваться отмены заградительных пошлин на импорт зерна.
18 октября: учреждается научная комиссия для изучения ситуации фитофторозом.
31 октября—1 ноября: на экстренном заседании Кабинета образована комиссия по помощи Ирландии.
9—10 ноября: Пиль приказывает тайно (чтобы не прекратились частные и местные попытки помощи) закупить кукурузу на 100 тыс. фунтов для раздачи в Ирландии.
15 ноября: научная комиссия докладывает, что половина урожая картофеля пропала.
20 ноября: первое заседание комиссии по помощи.
5 декабря: ввиду неудачи усилий по отмене заградительных пошлин на импорт зерна Пиль подает в отставку. Несколько дней спустя ему вновь поручают сформировать кабинет — его конкурент не может сформировать правительство.
1846
Начало года: регистрируются первые смерти от голода.
Февраль: начинает прибывать кукуруза Пиля.
Март: Пиль пытается организовать общественные работы, но его отправляют в отставку 29 июня. Пошлины на импорт зерна отменяются — но «постепенно в течение 3-х лет».
Новый премьер, исходя из принципа «рынок все сам исправит», останавливает помощь зерном и организацию общественных работ. Сотни тысяч остаются без работы, денег и еды. Продолжается экспорт зерна из Ирландии.
Частные инициативы (квакеры) пытаются организовать помощь; правительство тоже вновь подключается — но бюрократия замедляет доставку продовольствия. Фитофтороз уничтожает урожай 1846 г. практически полностью.
К декабрю около 300 тыс. ирландцев заняты на публичных работах.
1847
Очень тяжелая зима ухудшает условия в Ирландии. Десятки тысяч гибнут от эпидемии тифа, в том числе в городах. Урожай этого года фитофторозом не затронут, но посажено картофеля слишком мало.
Закон о суповых кухнях (финансовая помощь местным властям для жертв голода) отменяется в сентябре. Помощь опять возлагается на частную и местную благотворительность. Для промышленных районов это ноша не по силам.
Новый всплеск эмиграции, переселенцев везут на гробовозах (coffin-ships) — старых посудинах, на которых возили рабов. Смертность на них — около 20-30 %.
1848
Возврат фитофтороза.
Эпидемия холеры.
Частые выселения тех, кто не может заплатить ренту землевладельцу.
Число жертв голода в июле достигает 840 тыс.
29 июля — начинается восстание в Типперери; его подавляют.
1849
Очередной неурожай картофеля.
Голод и эпидемия холеры.
1850
Окончание голода.
1851
Население Ирландии по переписи составляет 6,575 млн человек, на 1,6 млн меньше чем 10 лет назад.
Османский Халифат спас народ Ирландии от умерщвления пока соседние страны наблюдали за их уничтожением
Написано 21 июня, 2013 в категории Новости, Отдел писем

Экс-президент Ирландии Мэри МакКализ, во время визита в Турцию: «Мы выстояли благодаря Османскому Халифату».
Что связывает современный Исламский мир с холодным и дождливым островом Ирландии? Как оказалось, помимо наличия современных мусульман в Ireland, эти два полюса свела жестокая политика Англии более 150 лет назад. В то время отношения абсолютной монархии к ирландцам можно охарактеризовать высказыванием самих англичан: «Овес — еда лошадей и ирландцев».
Чтобы осмыслить глобальность тех событий, вернемся в прошлое.
В 1845 году произошли события, которые окончательно вселили в сердца ирландцев ненависть к английской империи. И ненависть эта, как показало время, оказалась генетической. Середина века ознаменовалась для свободолюбивого народа настоящим испытанием. Картофель — основная, и, фактически, единственная еда ирландцев, был поражен патогенным микроорганизмом, фитофторозом. Все посевы данного плода были уничтожены на всей территории страны.
Деструктивная, зачастую варварская политика англичан привела к полному уничтожению сельскохозяйственного сектора зеленого острова, основного и единственного источника пропитания жителей Ирландии. С 1845 по 1849 год население 8 миллионного Eire сократилось до менее чем 5 миллионов. Из них более одного миллиона трагически погибло непосредственно от голода. Остальные 2 миллиона были вынуждены эмигрировать в поисках пропитания. На все попытки населения колонии выпросить земли для обработки у монархии, наталкивались на жесткое сопротивлении Лондона. В то время, территория острова принадлежала английской короне, церкви и знати.
Больше половины из обрабатываемых земель Ирландии цинично пустовали. Естественно, подобный расклад раздражал коренное население. Но «мнение скотов ирландских» мало волновало просвещенные умы обитателей Темзы. Вся «гуманитарная помощь» монархии умирающим от голода ирландцам заключалась в поставке гнилого картофеля и испорченной моркови. Современная ирландская история выдвигает версию в умышленном уничтожении коренного населения Eire английскими колонизаторами.
И именно данный трагичный для Ирландии момент связал чуждых к Исламу ирландцев с мусульманами того времени.
Османский халиф Абдул-Маджид, услышав о жестокости англичан в период жесточайшего голода, приказал снарядить помощь нуждающимся христианам Ирландии. Нужно понимать, что данное действие не несло мусульманам никакой выгоды, так как ни в экономическом, ни в политическом плане халифат не получал дивидендов. Нищая и больная Ирландия на тот момент фактически вымирала.
Первая попытка мусульман на официальном уровне была пресечена королевой Англии. Халиф передал нуждающимся Ирландии 10.000 фунтов, из которых была принята лишь 1000 ф. Отказ был мотивирован тем, что казна государства не нуждается во внешней помощи. Но так как со стороны Англии не последовало адекватных действий в отношении умирающих, то халиф подготовил и отправил тайную помощь. Были снаряжены караваны кораблей, заполненных продовольствием, одеждой и медикаментами.
В режиме строгой секретности корабли мусульман пробирались к далеким и чужим для них берегам. Опасность исходила не только от военных кораблей Англии, Франции или Испании, но так же и от флибустьеров того времени, не обремененных какими-либо обязательствами или договорами. Добравшись до берегов Ирландии, корабли следовали в Дрохеду, где и проходила раздача помощи. Данное действие далеких «варваров» восхитило ирландцев того времени. Именно по этой причине современный футбольный клуб «Droghedа» на своем гербе гордо несет символику халифата.

В заключении предоставим зарисовку того времени. В этом высказывании можно проследить жестокость и подлость целого государства по отношению к нуждающейся Ирландии:
Путешествующий по стране Томас Карлайл писал: «Никогда не видел в мире подобной нищеты... Часто меня приводило в ярость, как нищие осаждали нас, будто бродячие собаки, набрасывающиеся на падаль... При виде таких сцен человеческая жалость уходит, оставляя вместо себя каменную отчужденность и отвращение».
Но худшее ждало впереди, когда британские землевладельцы за неуплату ренты стали выселять десятки тысяч голодающих крестьян с земель. Граф Льюкан в графстве Мейо, превознесенный Альфредом, лордом Теннисоном в его «Charge of the Light Brigade», выселил из лачуг 40 000 крестьян, когда они не смогли уплатить ему ренту.
И когда картофельные поля поразила болезнь, для англичан это был шанс спасти свою честь и миллионы жизней. Но вместо этого, граф Льюкан еще более ужесточил условия жизни крестьян. Ирландский корреспондент «Лондон таймс» Сидней Годолфин Осборн назвал его действия «филантропическими», считая, что они помогали стабилизировать население. Альфред Теннисон, английский поэт, наиболее яркий выразитель викторианской эпохи, любимый поэт королевы Виктории, которая дала ему почётное звание поэта-лауреата и титул барона, сделавший его пэром Англии, не преминул сказать свое слово, заметив: «Кельты — все законченные болваны. Они живут на ужасном острове, и у их нет истории, достойной даже упоминания. Почему никто не может взорвать этот поганый остров динамитом и разметать его кусочки в разные стороны?».
Комментарии излишни.
***
Официальная хронология Великого Ирландского Картофельного Голода:
1845
Сентябрь: первые доклады о фитофторозе.
Середина октября: доклады становятся повсеместными. Премьеру Р. Пилю (Peele) становится ясно, что надо действовать.
15 октября: Пиль решает добиваться отмены заградительных пошлин на импорт зерна.
18 октября: учреждается научная комиссия для изучения ситуации фитофторозом.
31 октября—1 ноября: на экстренном заседании Кабинета образована комиссия по помощи Ирландии.
9—10 ноября: Пиль приказывает тайно (чтобы не прекратились частные и местные попытки помощи) закупить кукурузу на 100 тыс. фунтов для раздачи в Ирландии.
15 ноября: научная комиссия докладывает, что половина урожая картофеля пропала.
20 ноября: первое заседание комиссии по помощи.
5 декабря: ввиду неудачи усилий по отмене заградительных пошлин на импорт зерна Пиль подает в отставку. Несколько дней спустя ему вновь поручают сформировать кабинет — его конкурент не может сформировать правительство.
1846
Начало года: регистрируются первые смерти от голода.
Февраль: начинает прибывать кукуруза Пиля.
Март: Пиль пытается организовать общественные работы, но его отправляют в отставку 29 июня. Пошлины на импорт зерна отменяются — но «постепенно в течение 3-х лет».
Новый премьер, исходя из принципа «рынок все сам исправит», останавливает помощь зерном и организацию общественных работ. Сотни тысяч остаются без работы, денег и еды. Продолжается экспорт зерна из Ирландии.
Частные инициативы (квакеры) пытаются организовать помощь; правительство тоже вновь подключается — но бюрократия замедляет доставку продовольствия. Фитофтороз уничтожает урожай 1846 г. практически полностью.
К декабрю около 300 тыс. ирландцев заняты на публичных работах.
1847
Очень тяжелая зима ухудшает условия в Ирландии. Десятки тысяч гибнут от эпидемии тифа, в том числе в городах. Урожай этого года фитофторозом не затронут, но посажено картофеля слишком мало.
Закон о суповых кухнях (финансовая помощь местным властям для жертв голода) отменяется в сентябре. Помощь опять возлагается на частную и местную благотворительность. Для промышленных районов это ноша не по силам.
Новый всплеск эмиграции, переселенцев везут на гробовозах (coffin-ships) — старых посудинах, на которых возили рабов. Смертность на них — около 20-30 %.
1848
Возврат фитофтороза.
Эпидемия холеры.
Частые выселения тех, кто не может заплатить ренту землевладельцу.
Число жертв голода в июле достигает 840 тыс.
29 июля — начинается восстание в Типперери; его подавляют.
1849
Очередной неурожай картофеля.
Голод и эпидемия холеры.
1850
Окончание голода.
1851
Население Ирландии по переписи составляет 6,575 млн человек, на 1,6 млн меньше чем 10 лет назад.
Отредактировано: КиевлянинЪ - 23 июн 2013 12:44:53
|
|
mvk ( Слушатель ) |
| 23 июн 2013 14:29:36 |
Тред №584580
новая дискуссия Дискуссия 160
И не только турки... Я думаю без французских (а может и испанских, не считая наших) ручек тут не обошлось... Впрямую дергать льва за хвост было не особо комильфо, а вот через турок сделать... да на раз...
И я не очень верю, что без содействия французов (да и испанцев) османские корабли дошли бы до Ирландии
новая дискуссия Дискуссия 160
Цитата: бульдозер
Там вопрос стоял об аннексии Суэцкого Канала. Турки хотели сдержать этот процесс- естественно- любой ценой,в том числе и такой. Резюме Джорджа Вильерса сыграло затем очень выжную роль по этому поводу.
Зы- Рассел- именно он дедушка упоминаемого мной Рассела..
И не только турки... Я думаю без французских (а может и испанских, не считая наших) ручек тут не обошлось... Впрямую дергать льва за хвост было не особо комильфо, а вот через турок сделать... да на раз...
И я не очень верю, что без содействия французов (да и испанцев) османские корабли дошли бы до Ирландии